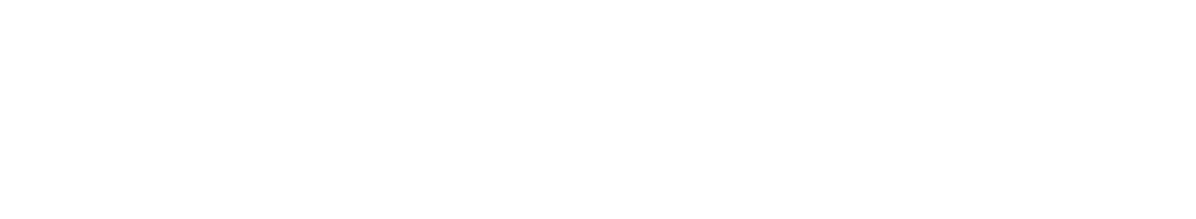Весной 1929 года Армстронг готовился к возвращению в Нью-Йорк, чтобы начать новый этап своей карьеры. Теперь это был уже вполне зрелый, сложившийся артист, в совершенстве владеющий инструментом, уверенный в своих силах. Его творческий гений достиг полного расцвета. Он не просто один из лучших джазменов, он — настоящий герой джаза. Та часть интеллигенции, которая достаточно серьезно относилась к джазовой музыке, признавала равным Армстронгу лишь Эллингтона. Некоторые, правда, ставили «Дюка» несколько выше — ведь он не только исполнял, но и сочинял музыку, а композитор в глазах меломана всегда стоит выше исполнителя. Но для простых любителей джаза, белых и черных, для своих коллег-джазменов, для тех миллионов американцев, которые хоть немного знали о «новой» музыке, Армстронг оставался единственным и неповторимым.
Особенно горячо любили его негры. Не надо забывать, что в те годы в Соединенных Штатах процветала расовая дискриминация. Например, в командах высшей лиги не было ни одного негритянского спортсмена. Для них существовала своя особая лига. Почти никому из негров не удавалось пройти на выборную должность. Лишь немногие негритянские артисты добивались широкой известности. Очень редко можно было встретить негра, занимающего высокое положение в администрации, бизнесе или промышленности. Негров считали людьми второго сорта, не способными к тонкому пониманию и выражению чувств. Подобные взгляды были распространены даже среди тех белых, которые относились к неграм с симпатией. Поразительно, что и сами негры, по крайней мере большинство из них, отрицая на словах превосходство белых, в глубине души ощущали себя неполноценными людьми. Впрочем, даже в тех сферах деятельности, где неграм удавалось добиться успеха, например в индустрии развлечений, им было трудно доказать, что они в чем-то могут встать выше белых.
Луи Армстронг не просто превзошел многих своих белых коллег, но и стал лучшим среди них. Сами белые говорили, что равного ему трубача и джазмена нет не только в Соединенных Штатах, но, возможно, и во всем мире. Для миллионов американских негров огромное значение имел тот факт, что из их среды вышел человек, сумевший добиться превосходства над белыми.
Таким образом, в 1929 году в глазах негритянского населения Армстронг стал настоящим героем, источником вдохновения, предметом гордости. Но и среди белых число его почитателей непрерывно увеличивалось, хотя их все еще было не так уж много. Рост популярности среди белой публики имел огромное значение для карьеры Луи. Концерты с участием Армстронга привлекали теперь большое число зрителей. Он делал хорошие сборы, и заправилы шоу-бизнеса видели, что на нем можно неплохо заработать.
В творческом отношении Армстронг в 1929 году находился как бы на распутье. С одной стороны, он имел огромную, потенциально неограниченную аудиторию, которой нравилось его пение, его актерское дарование, даже его кривляние. С другой — перед ним открылась дорога в более узкий мир настоящего, серьезного джаза, уже завоевавшего уважение многих интеллектуалов, музыкантов, достаточно широкой публики.
В течение последних четырех лет пребывания Армстронга в Чикаго его творчество развивалось одновременно в двух направлениях. Плодотворно сотрудничая с фирмами звукозаписи, он сделал несколько серий пластинок, в значительной мере определивших дальнейшее становление джазовой музыки. Поскольку в этих записях он выступал не только как виртуозный инструменталист, но и как певец и «развлекатель», их приобретали и тонкие ценители джаза, и менее искушенные любители легкой музыки. В то же время, выступая в клубах, Армстронг не только пел и фиглярничал на потеху публике, но и исполнял на трубе настоящую джазовую музыку, обогащая ее новыми открытиями, чтобы потом запечатлеть их на пластинках. Короче, Армстронгу удавалось одновременно привлечь массовую аудиторию и удовлетворить запросы серьезных почитателей джаза.
Чтобы лучше понять, почему же Армстронг избрал именно такой путь, давайте посмотрим, что он представлял из себя в ту пору как личность. В 1929 году Армстронг — уже не мальчик и даже не молодой человек, но вполне зрелый мужчина, в характере которого уживались и сильные, и слабые стороны. Несмотря на то, что он так и не получил настоящего образования, и на то, что временами продолжала проявляться его наивность, Армстронг научился трезво смотреть на жизнь, видеть ее положительные и отрицательные стороны такими, каковы они есть на самом деле. Он почти полностью изжил иллюзии относительно окружающего мира. Армстронг был реалистом, способным пробуждать в людях возвышенные чувства. В то же время Луи не освободился от сентиментальности, из-за которой ему временами изменял музыкальный вкус. Армстронга всегда отличали щедрость и откровенность. Его нельзя было не любить. Но, когда на него слишком уж сильно давили, он становился страшно упрямым и легко выходил из себя.
Больше всего Армстронг не любил, когда ему начинали говорить, как он должен играть или вести себя на эстраде. Всю жизнь Луи позволял другим подбирать музыкантов для ансамблей, с которыми он выступал, составлять репертуар, делать аранжировки. Но на сцене только он один решал, что и как ему надо делать. Он сам определял темп и очередность исполнения пьес. Он играл их так, как считал нужным, гримасничал так, как того хотелось ему самому. Один из помощников Глейзера Дэйв Голд считал Армстронга «страшно упрямым парнем. Симпатичный, очень приятный человек, — продолжал Голд, — временами он становился несговорчивым и даже жестким по отношению к окружавшим его людям, требуя, чтобы каждый делал свое дело как можно лучше». Другой сотрудник Глейзера, Джо Салли, подтверждал, что «никто не смел диктовать Луи, что он должен делать на сцене. Он совершенно этого не выносил и всегда сам решал, каким должно быть его выступление». Армстронг мог, не раздумывая, отмахнуться от предложений самого Джо Глейзера, если они касались манеры исполнения того или иного произведения. В то же время он доверял своему менеджеру решение практически всех остальных вопросов, связанных с его музыкальной карьерой. Так, именно Глейзер часто подсказывал Армстронгу, какой должна быть программа его концерта, и тот охотно пел рекомендованные им песни. Но если кто-то пытался сказать ему, как он их должен петь, то такого человека Луи просто выставлял вон.
Но, несмотря на такую, казалось бы, независимость в творческих делах, людям, окружавшим Армстронга, часто удавалось заставить его поступиться интересами искусства ради коммерческой выгоды. Луи, например, всегда прислушивался к наставлениям Джо Глейзера, который постоянно уговаривал его отбросить щепетильность и развлекать зрителей всеми доступными способами, включая откровенное кривляние. «Я часто советовал Армстронгу, — рассказывал Глейзер, — „Луи, забудь ты этих чертовых критиков и музыкантов. Играй для публики, — говорил я ему. — Пой, играй и улыбайся. Улыбайся, черт возьми, улыбайся. Дай им, что они хотят“» . То же самое происходило и с записями. Владельцы фирм были заинтересованы не в настоящем джазе, а в том, чтобы продать как можно больше пластинок.
И все-таки только Армстронг окончательно решал, что должно происходить на сцене и как ему играть. И если в последующие годы он все чаще жертвовал своим талантом исполнителя ради того, чтобы с помощью невзыскательных трюков нравиться толпе, то это был путь, избранный им самим. Чтобы понять, почему он его выбрал, надо подробнее рассмотреть еще одну черту характера Армстронга, о которой никогда особенно не говорили, но которая была известна всем работавшим с ним джазменам.
Мы уже отмечали, что Армстронг, несмотря на свою природную застенчивость, очень болезненно реагировал на любой брошенный ему вызов. Однажды большой поклонник его таланта корнетист Рекс Стюарт явился в клуб и предложил устроить соревнование между ним и Армстронгом. Для Луи это не могло звучать как шутка. Сама мысль о том, что его протеже намерен оспаривать его первенство, была ему невыносима. По словам Стюарта, после этого случая Армстронг долго с ним не разговаривал. То же самое подтверждают и другие хорошо знавшие Армстронга музыканты. Например, новоорлеанский контрабасист «Попс» Фостер, в 1930-х годах выступавший вместе с Луи, вспоминал следующее: «Армстронг был страшно ревнив к успехам других исполнителей. Если вы играли плохо, вас выгоняли из оркестра, если слишком хорошо, для вас просто не оказывалось там места. Как только я чересчур увлекался игрой на своем контрабасе и начинал переигрывать других оркестрантов, раздавался окрик Армстронга: „Эй ты, парень! Может, ты нам еще и на трубе сыграешь? Давай, попробуй!“ Луи не стоило так завидовать, он ведь был выдающимся человеком» . Такая ревность, или зависть, была главной чертой характера Армстронга, и проявлялась она так же инстинктивно, как у кошек встает дыбом шерсть.
Как же могла преследовавшая Армстронга всю жизнь неуверенность в своих силах уживаться с такой нетерпимостью к успехам других? Объяснение этого парадокса дал сам Луи, который однажды признался трубачу Руби Браффу: «Пусть у меня стащат что угодно, только не мои аплодисменты». Друживший с Армстронгом в последние годы его жизни контрабасист Маршалл Браун как-то заметил: «В Луи жила постоянная потребность нравиться, и он, как „дядя Том“, неизменно готов был демонстрировать свою широкую улыбку, чтобы завоевать расположение белых. Ему нужны были аплодисменты, и он всегда старался сорвать их как можно больше». И еще одно высказывание, на этот раз самого Армстронга: «…Мне нужна публика. Я хочу слышать, как она аплодирует» .
Армстронг жил с глубоко укоренившимся в его психике страхом за завтрашний день. Ощущение своей неполноценности было в нем настолько развито, что он оказался не в состоянии его преодолеть даже тогда, когда стал всемирно известным артистом. Оно оскорбляло чувство собственного достоинства Армстронга, и избавиться, хотя бы на время, от этого ощущения он мог только на сцене, где своей игрой, пением, улыбкой, просто кривлянием вызывал бурю аплодисментов десятков, сотен и даже тысяч людей. Овации публики оказывали на него поистине целебное воздействие: наступал блаженный момент, когда страх, что его никто не любит, что он ничего из себя не представляет, на время покидал великого музыканта. Надо ли удивляться тому, что каждый раз, когда появлялась возможность вкусить очередную дозу этого целебного бальзама, Армстронгу трудно было от нее отказаться.
В 1929 году граница между коммерцией и искусством в джазе была весьма условной и неустойчивой. Хендерсон, Армстронг, Эллингтон и Оливер никогда не считали себя деятелями искусства и уж тем более исполнителями народной музыки. Сам термин «народная музыка» тогда был мало кому известен. Трудно ожидать, чтобы человек, который, подобно Армстронгу, в детстве питался тем, что ему удавалось найти в выброшенных на помойку консервных банках, и не подозревал о существовании такого удобства, как домашний туалет, согласился бы ради чистоты искусства, фигурально выражаясь, жить на чердаке. Для Армстронга и его друзей, негритянских музыкантов, единственной альтернативой работе в индустрии развлечений был тяжелый физический труд. Где еще они могли исполнять свою «новую» музыку, как не в кабаре, кинотеатрах и дансингах?
Совсем другим был жизненный опыт первых белых джазменов. Из их среды как раз и выходили подвижники, готовые пожертвовать материальными благами и довольствоваться арахисовым маслом да джином. Многие из них принадлежали к среднему классу. В домах их родителей висели репродукции картин старых мастеров, на рояле лежали ноты сонат Бетховена, а в книжных шкафах стояли томики Шекспира. Они знали, что выдающиеся мастера культуры посвящали свою жизнь служению искусству. Что же касается негритянских музыкантов, то большинство из них, особенно те, кто вырос в новоорлеанском гетто, даже не слышали о существовании взгляда на художника как на особое существо, наделенное особой миссией. Такой взгляд показался бы им просто нелепостью. В той среде, где приходилось жить черным джазменам, царил закон джунглей. Они выполняли тяжелую, а иногда и опасную работу. И все же профессия музыканта была одним из немногих доступных им занятий, не связанных с неквалифицированным физическим трудом. Это вовсе не означало, что им была безразлична исполняемая ими музыка. Напротив, они ее очень любили и при определенных обстоятельствах готовы были играть ее сколько угодно совершенно безвозмездно. Далеко не всегда они шли на компромиссы ради денег. Многие из них отличались подчеркнуто независимым, даже колючим характером и резко реагировали на попытки навязать им чужую волю. Но они прекрасно понимали, что у индустрии развлечений есть свои законы, которые нельзя не соблюдать. В те годы джаз был полностью в руках дельцов от музыки и не мог развиваться собственным свободным путем.
К 1929 году не только музыкантам и антрепренерам, но и самому Армстронгу стало ясно, что он — потенциальная звезда эстрады, что его талант способен привлечь внимание большого числа любителей музыки, как негров, так и белых, что он теперь может хорошо зарабатывать и дать возможность заработать на нем другим. Со всех сторон на Армстронга начали сыпаться предложения выступить то в том, то в другом клубе, отправиться на гастроли в тот или иной город, сделать записи в какой-нибудь студии. Армстронгу, с его неуверенностью в себе, сочетавшейся с острой потребностью постоянно слышать одобрительные аплодисменты, было невероятно трудно отказываться хотя бы от некоторых из этих предложений «в интересах искусства». Слишком велико было оказываемое на него давление, как извне, так и изнутри, идущее от особенностей его характера.
Самым предприимчивым среди увивавшихся вокруг Армстронга дельцов был Томми Рокуэлл, один из руководителей фирмы «OKeh», непосредственно отвечавший за звукозапись. По роду своей работы он знал многих негритянских эстрадных актеров и хорошо видел, какую выгоду сулит более широкое привлечение их в шоу-бизнес. Томми Рокуэлл стал первым из трех белых менеджеров, с которыми работал Армстронг в течение последующих шести лет. Все трое имели между собой много общего. Это были жесткие, деловые люди, готовые отстаивать свои права даже с помощью кулаков, они не останавливались перед обманом, были безжалостны с теми, кто оказывался слабее их. Больше того, хотя сами они не были гангстерами, все трое, когда это требовалось, умели вести дело с преступным миром, не поступаясь своими интересами.
В 1930-1940-е годы одними из наиболее влиятельных людей в мире музыкального бизнеса считались Томми Рокуэлл и Джо Глейзер. Они использовали свое положение прежде всего в целях собственного обогащения. Никто не заставлял Армстронга выбирать себе в антрепренеры людей такого типа. Вокруг него было достаточно белых, которые могли бы не хуже Рокуэлла и Глейзера помочь ему сделать карьеру, не ставя наживу на первое место. Но, как и раньше, Армстронга привлекали прежде всего сильные личности, с жестким, агрессивным характером, умеющие пить, горластые, пробивные люди со связями в преступном мире, одним словом, сержанты индустрии развлечений.
Рокуэлл слыл далеко не худшим среди них. Вообще выбор Армстронга был не так уж плох. Не имея абсолютно никаких музыкальных данных, Томми в то же время обладал исключительной интуицией на таланты. В течение двух лет он делал записи с участием Армстронга, мог наблюдать за его стремительным творческим ростом, и вот теперь он активно взялся проталкивать его всюду, где только можно. Хотя Рокуэллу часто приходилось бывать в Чикаго, местом его жительства был Нью-Йорк, где находилась штаб-квартира фирмы «OKeh». В марте месяце он организовал для Армстронга ангажемент на сольные выступления в «Савое», главном гарлемском танцзале для черных.
Армстронг прекрасно понимал, что время процветания чикагских кабаре прошло, и с радостью поехал в Нью-Йорк, где выступил с оркестром, возглавляемым пианистом Луисом Расселлом, им предстояло работать вместе в течение всего последующего десятилетия. Нью-йоркские негры встретили Армстронга как героя. Толпы людей собирались каждый вечер у «Савоя», чтобы послушать его игру. Вот что писал тогда об этих гастролях Дэйв Питон: «Задолго до открытия танцевального зала вдоль Леннокс-авеню выстраиваются длинные очереди желающих попасть на концерт. Тысячам из них это так и не удается. В честь Луи дано столько банкетов, что он даже почувствовал себя утомленным. Но популярность и почести не испортили знаменитого джазмена, который остался тихим, замкнутым и скромным человеком» .
Рокуэлл решил воспользоваться пребыванием Армстронга в Нью-Йорке и сделать на студии «OKeh» записи некоторых пьес, исполнявшихся им в «Савое» с оркестром Расселла. Но случилось так, что на одном из банкетов присутствовало несколько известных белых джазменов, и среди них опытный банджоист Эдди Кондон, который в 1940-е годы стал ведущим исполнителем в стиле диксиленд. Напористый, представительный Кондон уговорил Рокуэлла собрать группу «All Stars Band» [«Все звезды джаза». — Перев.], в которую вошли бы и белые, и негритянские музыканты, и устроить джэм-сешн — свободное совместное музицирование и соревнование в исполнительском мастерстве. Предложение показалось Рокуэллу заманчивым, и он согласился. Кондон тут же пригласил войти в состав группы трех белых джазменов — тромбониста Джека Тигардена, гитариста Эдди Лэнга и пианиста Джо Салливена — и двух негритянских музыкантов — ударника «Кайзера» Маршалла из оркестра Хендерсона и тенор-саксофониста «Хэппи» Калуэлла. Договорились начать сеанс в восемь часов утра, но, когда банкет подошел к концу, стало ясно, что расходиться по домам уже нет никакого смысла. «Я повез парней на своей машине в ресторан, — рассказывает Маршалл. — Где-то около шести мы сели завтракать, а в восемь все были уже в студии. При этом мы захватили с собой целый галлон виски» .
В студии к ним присоединился оркестр Расселла, и все вместе они сделали четыре записи. Первые две пьесы — «I Can’t Give You Anything But Love» и «Mahogany Hall Stomp» — были записаны в исполнении Армстронга и музыкантов Расселла, две другие — «Knockin’ a Jug» и «I’m Gonna Stomp Mr. Henry Lee» — записала группа джазовых звезд. (Пластинки с двумя последними записями так и не были выпущены.)
Этот импровизированный сеанс оказался очень удачным. Запись «I Can’t Give You Anything But Love» привела в восторг специалистов и в то же время привлекла внимание широкой публики. В пьесе «Mahogany Hall Stomp» Армстронг исполнил соло с сурдиной, которое стало джазовой классикой и надолго вошло в его репертуар. Важно отметить, что это был один из немногих сеансов записи Армстронга с малыми джаз-бэндами, когда все его участники оказались достойными друг друга. Так, Эдди Лэнг по праву считался ведущим джазовым гитаристом, основателем джазового стиля в игре на этом инструменте. На его основе Джанго Рейнхардт в свою очередь создал впоследствии собственный стиль. Джек Тигарден был одним из лучших джазовых тромбонистов. Прекрасными исполнителями показали себя и два других участника сеанса.
Сколь ни коротки были гастроли Армстронга в Нью-Йорке, они убедили Рокуэлла и, видимо, самого Луи в том, что он способен собрать огромную аудиторию не только негритянских, но и белых любителей джаза. А это означало возможность получить ангажемент на выступление перед белой публикой. И Рокуэлл начал действовать.
Как раз в это время молодой композитор, автор нескольких ревю Винсент Юманс готовил новое представление. Ранее им был уже создан целый ряд широко известных, ставших впоследствии джазовой классикой песен. Среди них «I Want To Be Happy», «Tea For Two», «Sometimes I’m Happy», «I Know That You Know», «Hallelujah» и другие. Благодаря их успеху Юманс стал влиятельной фигурой в мире музыкального бизнеса. Разочарованный уровнем постановки его последнего ревю, Юманс решил стать собственным продюсером. Незадолго до этого на одной из нью-йоркских сцен с огромным успехом прошел спектакль Джерома Керна «Show Boat» . Это была не просто очередная музыкальная комедия, а настоящая оперетта, что знаменовало определенный шаг вперед американского музыкального театра. Юманс хотел доказать, что он может поставить спектакль не хуже.
Действие «Show Boat» происходило на прогулочном пароходе, плывущем по Миссисипи, а его героями были обаятельные, преисполненные достоинства белые и жалкие, вызывающие смех негры. Используя те же персонажи, Юманс написал либретто спектакля, с той лишь разницей, что его действие происходит на плантации. Он сочинил прекрасные, надолго вошедшие в репертуар эстрадных певцов песни «More Than You Know», «Without a Song», а также «Great Day» , название которой дало имя спектаклю. Однако все остальное не выдерживало никакой критики.
В те годы увлечение негритянской эстрадой достигло своего апогея, и Юманс решил сделать ансамбль Хендерсона ядром создаваемого им театрального оркестра. В июне в пригороде Филадельфии состоялась премьера спектакля, где в составе ансамбля Хендерсона играл и Армстронг, причем, судя по всему, он еще и пел.
Армстронгу и раньше приходилось выступать в театрах, но впервые он стал участником представления для белых, которое к тому же должно было вскоре пойти на сцене Бродвея. Конечно, и он сам, и Лил расценили это событие как важный шаг в его профессиональной карьере и стали готовиться к отъезду в Нью-Йорк. Неизвестно, почему Армстронг взял с собой коллег из ансамбля Кэролла Диккерсона, — никакой предварительной договоренности на этот счет у него с Рокуэллом не было. Скорее всего, он просто побаивался оказаться один на один с незнакомым городом и хотел, чтобы рядом были старые друзья. Что же касается музыкантов Диккерсона, то им, видимо, не хватало в Чикаго работы, и они решили, что вместе со своей звездой получить ее будет легче. Да и вообще Нью-Йорк был тогда пределом мечтаний каждого артиста. В конце мая караван в составе трех автомашин тронулся в путь.
Как обычно, заранее ничего продумано не было. Когда Лил распределила собранные ею деньги, оказалось, что на каждого пришлось всего по двести долларов. Армстронг совершенно не подумал о том, чтобы заранее поручить Рокуэллу подыскать для него ангажемент в Нью-Йорке или хотя бы получить твердую гарантию предоставления работы. Никому, включая Рокуэлла, не пришла в голову простая мысль: с владельцами нью-йоркских заведений надо договариваться о выступлениях заблаговременно. Автострад тогда еще не было, и маршрут наших друзей проходил непосредственно сквозь все лежавшие на их пути города и поселки. К их удивлению, везде, где бы они ни останавливались на отдых или на ночлег, из дверей магазинов пластинок и кафе доносились звуки армстронговской трубы. Вот когда Армстронг обнаружил, что он — знаменитость и что еще в Чикаго можно было бы заключить контракт на гастроли в Нью-Йорке. Но теперь было уже поздно. По пути их машины постоянно ломались, и в конце концов одну из них пришлось бросить. В Нью-Йорк музыканты прибыли страшно усталые, в растерзанном виде и в подавленном настроении. Позднее Армстронг вспоминал: «Этот сукин сын автомобиль пустил, знаете, пар — крышка [радиатора. — Авт.] отскочила. Коп подлетел и давай искать там оружие, номер-то у нас был чикагский» .
Рокуэлл был, конечно, озадачен и недоволен тем, что ему надо заботиться о целом оркестре. Но Армстронг не захотел расставаться со своими друзьями. С помощью контрабасиста Уэлмана Брауда, выходца из Нового Орлеана, им удалось получить ангажемент на одно выступление в негритянском театре в Бронксе, где они заменили оркестр Эллингтона. Когда поднялся занавес, сидевшие в оркестровой яме музыканты с удивлением увидели на сцене вместо оркестрантов Эллингтона каких-то незнакомых джазменов. «Но тут, — рассказывает Затти Синглтон, — раздались звуки трубы. Это Армстронг заиграл в высоком регистре, и музыканты все как один встали со своих мест» .
Вскоре Армстронг выехал в Филадельфию, чтобы репетировать с оркестром Хендерсона. Однако оказалось, что там царит полнейший хаос. Оркестр пополнился белыми музыкантами, главным образом скрипачами. Кроме того, под тем предлогом, что Хендерсон не имеет опыта работы в ревю, Юманс предложил поручить руководство оркестром другому дирижеру, некоему Роберту Гетцлю, который тут же начал выгонять друзей Хендерсона и заменять их белыми исполнителями. Джазмены Хендерсона всегда отличались разболтанностью, и, возможно, именно из-за этого их и уволили, но, как мне кажется, основная причина заключалась в том, что белые музыканты просто не хотели работать вместе с неграми. Ситуация довольно типичная. Даже в 1970-е годы некоторые белые музыканты крупнейших симфонических оркестров США отказывались играть рядом с чернокожими коллегами. Как всегда в таких случаях, Хендерсон повел себя крайне пассивно, и в конечном счете все его оркестранты, включая Армстронга, либо были уволены, либо, негодуя, ушли сами. Так прекратил свое существование один из самых замечательных оркестров тех лет. Многие из музыкантов Хендерсона не простили ему предательства и никогда с ним больше не работали. Как писала одна гарлемская газета, Армстронг был уволен, «поскольку не сумел приспособиться к требованиям, предъявляемым коммерческой эстрадой». В истории американской музыки, пожалуй, трудно встретить более нелепую оценку таланта. Впоследствии друзья Хендерсона в какой-то степени были отомщены тем, что, несмотря на великолепное музыкальное сопровождение, спектакль «Great Day» с треском провалился и Юманс понес значительные убытки. Приехав в Нью-Йорк, Армстронг поселился в Гарлеме. По сравнению с 1924 годом этот район изменился до неузнаваемости, поскольку во второй половине 1920-х годов начался удивительно быстрый процесс превращения некогда элегантной столицы негров в ужасающие трущобы. Одной из причин такой деградации была страшная перенаселенность. Низкий доход в сочетании с высокой квартирной платой вынуждал несколько семей селиться в одной квартире. Кроме того, бывшим сельским жителям крайне трудно оказалось приспособиться к городским условиям жизни. Наконец, так же, как и Чикаго, Гарлем страдал от засилья гангстеров. С введением «сухого закона» все кабаре оказались в руках подпольных шаек, контролировавших незаконную торговлю спиртными напитками и наркотиками. Процветали рэкет и проституция. В замаскированных под аптеки и кондитерские лавочки заведениях шла бойкая торговля вином. По улицам, не зная, чем себя занять, слонялись шести-семилетние дети с болтающимися на шее ключами от дома. Как пишет Ософски, «в течение каких-нибудь десяти лет Гарлем из района комфортабельных городских кварталов превратился в район острейших социально-экономических проблем и остается таким по сегодняшний день» .
Но, несмотря на такие перемены, Гарлем, по словам того же Ософски, «в глазах большинства белых, да и многих негров тоже, был по-прежнему местом развлечений, где живут постоянно поющие и танцующие люди» . По вечерам там открывалось множество кабаре, кафе и клубов, в которых публике предлагались экзотические, приправленные изрядной долей эротики зрелища, очень нравившиеся белым посетителям. Там же они могли послушать и новую, «горячую» музыку. Выступая как-то перед членами одной негритянской общественной организации, известный газетный обозреватель Хейвуд Браун, сам того не подозревая, произнес пророческие слова: «В любой день может появиться великий негритянский деятель культуры, который своим творчеством поразит весь мир и сделает больше для преодоления расовой дискриминации, чем все мы, вместе взятые» . Предсказание Брауна оказалось удивительно верным. Правда, подразумевалось, что появится писатель, композитор или художник. И сам Браун, и его слушатели пришли бы в ужас, если бы им сказали, что таким деятелем станет малообразованный, склонный к полноте коротышка трубач, которого будут приглашать в такие заведения, где до него не смел появиться ни один цветной, и который будет развлекать там посетителей своими ужимками и исполнением малопристойных песен.
После провала спектакля «Great Day» на руках у Рокуэлла оказался не только безработный оркестр, но и безработная звезда. Теперь, чтобы удержать Армстронга в Нью-Йорке, ему надо было подыскать работу. Наибольшим спросом негритянские артисты пользовались тогда в кабаре Гарлема, которых насчитывалось более десятка: роскошных, предназначенных для изысканной белой публики, и маленьких, гораздо более скромных заведений для негров. В большинстве из них зрителям предлагалась довольно примитивная, часто «эксцентричная» программа. Но в некоторых кабаре, например «Коттон-клаб», где в течение пяти лет выступал «Дюк» Эллингтон, и в «Коннис-Инн», куда вскоре пригласили Армстронга, уровень представлений был гораздо выше, а номера отличались сравнительной пристойностью. Как и в Чикаго, в нью-йоркских кабаре выступали комедианты, танцоры, певцы и обязательно «пони» — молоденькие танцовщицы в фантастических, нередко чисто символических одеяниях. Как правило, разыгрывались скетчи. Об их характере можно судить по описанию известного историка джаза Маршалла Стенза: «Продравшись сквозь сделанные из папье-маше джунгли, светлокожий, великолепно сложенный негр оказывается на расположенной рядом со сценой танцплощадке. На нем летный шлем, защитные очки и шорты. Подразумевается, что он совершил вынужденную посадку в самом центре Черного континента. На сцене „авиатор“ видит „белую богиню“ с прекрасными золотистыми волосами, окруженную „чернокожими“, которые, стоя на коленях, молятся на свое божество. Схватив бич из толстой бычьей кожи, он разгоняет дикарей, после чего вместе с блондинкой исполняет эротический танец» .
В каждом кабаре выступал один, а то и два оркестра, которые играли музыку к эстрадной программе, а в антракте — танцевальные мелодии и джазовые пьесы. Время от времени во многих заведениях ставили роскошно костюмированные шоу.
Хозяином «Коттон-клаб» был известный нью-йоркский мафиози, главарь крупнейшей гангстерской шайки города Оуни Мэдден. Его основными конкурентами считались братья Конни и Джордж Иммерман, владельцы кабаре «Коннис-Инн», которые, хотя и не принадлежали ни к одной из гангстерских группировок, имели, судя по всему, с Мэдденом какие-то свои, «особые» отношения. Представления в «Коннис-Инн» отличались довольно высоким уровнем, так как к их постановке часто привлекались талантливые композиторы-песенники и режиссеры. Незадолго до приезда в Нью-Йорк оркестра Хендерсона братья Иммерман предложили молодому негритянскому эстрадному артисту Томасу «Фэтсу» Уоллеру сочинить музыку для нового спектакля. Уоллер был талантливым пианистом, игравшим в стиле страйд, автором многих популярных песен. Но особенно он любил орган и время от времени подрабатывал в «Коннис-Инн» игрой на этом инструменте. Среди поэтов, сотрудничавших с Уоллером, лучшим был Эндрю Разаф, вместе с которым он написал несколько шоу. Разаф утверждал, что он племянник королевы Мадагаскара Ранавалоны и что его полное имя Андреа Менентаниа Разафинкериефо. Его мало обоснованные претензии на королевское происхождение часто вызывали насмешки, но не мешали ему быть глубоким, тонким лириком. За время многолетней совместной работы Уоллер и Разаф сочинили множество прекрасных песен, некоторым из них была суждена долгая жизнь, в том числе песням «Ain’t Misbehavin’ » и «Black and Blue», которые они написали для нового шоу «Hot Chocolates» .
К тому времени мода на негритянскую эстраду превратилась в своего рода «музыкальную лихорадку», и братья Иммерман решили этим воспользоваться. Добавив к шоу несколько музыкальных номеров, они превратили его в настоящий музыкальный спектакль. В начале июня в театре «Виндзор» на Бронксе был устроен пробный прогон, который прошел весьма успешно, после чего Конни и Джордж Иммерман задумали поставить его на Бродвее. Однако вскоре они пришли к выводу, что, прежде чем показывать спектакль бродвейской публике, надо сделать его покороче и «погорячей». Премьера на Бродвее была отложена, а тем временем сокращенный вариант спектакля шел в кабаре.
Незадолго до бродвейской постановки «Hot Chocolates» в спектакль был введен Армстронг. Вначале его роль была довольно скромной: сидя в оркестровой яме, он пел песню «Ain’t Misbehavin’ «, служившую репризой между актами. В рецензии газеты «Нью-Йорк Америкен» отмечалось: «Особенно хочется выделить джазовую балладу «Ain’t Misbehavin’ « в исполнении одного из музыкантов оркестра, которая является подлинным украшением всего спектакля» . Очень скоро братья Иммерман поняли, что Армстронг пользуется у зрителей огромным успехом, и стали все чаще выдвигать его на первый план. В конце концов Луи предоставили право петь «Ain’t Misbehavin’ » со сцены, а также исполнять вместе с Эдит Уилсон и «Фэтсом» Уоллером эстрадный номер «A Thousand Pounds of Rythm».
Таким образом, Луи Армстронг окончательно завоевал право выступать на сцене Бродвея. Исполнение известной пьесы Уоллера считается поворотным пунктом в его карьере. Из этого не следует, что он сразу же стал знаменитостью, но теперь его хорошо знали заядлые театралы Нью-Йорка, а главное — позиции его импресарио Рокуэлла на переговорах с владельцами клубов весьма упрочились. Уверовав в блестящее будущее своего подопечного, Рокуэлл исподволь внушал Луи мысль о грядущих славе и богатстве. Как и все другие его менеджеры, Рокуэлл сильно перегружал Армстронга. После спектакля на Бродвее Луи мчался в Гарлем, чтобы выступить в «Коннис-Инн». Но Рокуэллу и этого было недостаточно, и в конце июня он ангажировал Армстронга на недельное выступление в театре «Лафайетт».
«Никогда еще в истории театральной жизни Гарлема ни одного артиста не принимали так, как принимают Армстронга в „Лафайетт“, — писала газета „Нью-Йорк эйдж“. — Когда этот лучший корнетист мира начинает извлекать из своей золотой трубы звуки, подобных которым никому еще не приходилось слышать, зрители в восторге вскакивают со своих мест» .
Однажды в июле месяце, вспоминает Дэйв Питон, «белые музыканты устроили в честь Армстронга банкет… во время которого ему преподнесли великолепные часы с выгравированной на них надписью: „Луи Армстронгу, лучшему корнетисту мира от музыкантов Нью-Йорка“» . Об Армстронге заговорили. О нем регулярно писала негритянская пресса. Время от времени рецензии на его выступления появлялись и в музыкальных изданиях для белых. Наряду с концертной деятельностью он продолжает записываться. Так, в июле на студии фирмы «OKeh» Армстронг вместе с оркестром Диккерсона записал четыре песни из спектакля «Hot Chocolates», включая знаменитую «Ain’t Misbehavin’ «. В сентябре — ноябре им были сделаны записи нескольких популярных пьес, и среди них «When You Are Smiling», во время исполнения которой он впервые использовал так поразивший всех музыкантов трюк — сыграл мелодию на целую октаву выше обычного регистра.
Выдержав 219 вечеров, представление «Hot Chocolates» в конце года сошло со сцены Бродвея. Примерно тогда же сменилась программа в кабаре «Коннис-Инн», где все это время шел упрощенный вариант спектакля. Теперь братьям Иммерман стали не нужны два оркестра, и Рокуэллу вновь пришлось ломать голову над тем, что делать с ансамблем Диккерсона. На этот раз он твердо решил от него избавиться, предложив Армстронгу работать с группой Расселла, поскольку с ней у него был подписан контракт. Соблазняя Армстронга славой и деньгами, он всячески убеждал его порвать с Диккерсоном, и старая дружба не выдержала такого испытания. Думаю, немалую роль в этом деле сыграла и Лил.
Без Армстронга ансамбль Диккерсона превратился в заурядный оркестр. Конечно, коллеги-музыканты были страшно расстроены отступничеством своего лидера. Особенно горевал Синглтон, который хотел по-прежнему работать с Армстронгом и ждал, что тот возьмет его с собой. Поскольку ожидания оказались напрасными, он и его жена Мадж решили откровенно поговорить со старым другом. «Когда мы вошли к ним в дом, — вспоминает Мадж, — я сразу же поняла, что Лил не в восторге от нашего визита. Она всегда больше всего хотела, чтобы Луи поскорее разбогател… Рокуэлл пообещал им хорошие деньги, и Лил тут же ухватилась за его предложение. Сам Луи сказал нам в тот вечер: „Знаете, я хочу делать деньги. У меня появился шанс хорошо заработать“. Думаю, он не должен был так поступать со своими друзьями» .
А вот что рассказывал впоследствии Синглтон: «Я спросил Армстронга, хочет ли он, чтобы я остался с ним. Вместо ответа Луи начал рассказывать, как много он может теперь заработать, и дальше все в том же роде. Мне ничего не оставалось делать, как сказать ему: „Знаешь, Луи, я тебя понимаю. Дружба дружбой, а деньги — врозь“» .
В подобном положении оказываются многие, если не большинство знаменитостей. Наступает момент, когда им приходится забывать о старых привязанностях и начинать новую жизнь. Достигнув положения звезды, они часто порывают с прежними друзьями, с теми, с кем, будучи еще молодыми артистами, выступали на третьих ролях в кабаре и на летних театральных площадках. Часто бывает трудно понять, почему так происходит. В случае с Армстронгом, видимо, сработали две причины. Во-первых, Томми Рокуэлл, конечно же, хотел быть менеджером артиста, не обремененного старыми связями. Второй причиной, думается, было ревностное отношение Луи к успехам своих коллег, порожденное его вечной неуверенностью в себе и своих силах. Как это ни странно, но особенно остро эта ревность проявлялась именно по отношению к самым близким ему людям. Расставшись с оркестром Диккерсона, Армстронг больше никогда не выступал ни с одним из тех новоорлеанских музыкантов, с которыми он когда-то начинал свою карьеру. Мы уже больше не увидим его играющим вместе с братьями Доддс, Нуном, Ори, Синглтоном, Сент-Сиром и многими другими. Правда, в оркестре Луиса Расселла было несколько новоорлеанцев, но Армстронг ни с кем из них так и не сблизился, а когда менеджер решил их уволить, то не сделал даже попытки вступиться за своих земляков.
Надо признать, что, даже если бы Армстронг захотел продолжить творческое сотрудничество с друзьями молодости, сделать ему это было бы нелегко. Никто из негритянских музыкантов тех лет — ни Армстронг, ни Расселл, ни остальные — не были в состоянии справиться с натиском энергичных, пробивных белых антрепренеров, суливших им золотые горы, обещавших славу и деньги. Взять того же Армстронга. Конечно, он мог заключить свой контракт с Рокуэллом на гораздо более выгодных условиях. Но в ту пору негры были склонны приписывать белым гораздо большее влияние и власть, чем те имели в действительности, и слишком легко уступали давлению белых дельцов, каждый из которых казался им важной персоной. Часто негры не имели ни малейшего понятия о том, что и как происходит в мире искусства, у кого в руках рычаги власти и кто в действительности отдает приказания, не умели защитить себя от притязаний белого хищника. Им приходилось иметь дело либо с гангстерами, готовыми покалечить или даже убить каждого, кто посмеет им не подчиниться, либо с белыми, которые в их представлении были совершенно особыми людьми, говорящими на особом языке и развлекающимися в отелях, ресторанах и других только для них предназначенных местах, куда негров не пускают даже на порог. Взаимоотношения негритянских артистов с боссами коммерческого искусства строились на неравной основе. У негров всегда были связаны руки. Им постоянно приходилось унижаться перед белыми хозяевами в надежде, что те, кому они вверяют свою судьбу, проявят к ним хотя бы милосердие.
Как все другие негритянские музыканты, и даже в большей степени, чем они, Армстронг не любил заниматься организационными делами. Он всегда старался избежать того, что на языке боксеров называется «ближним боем» и без чего немыслимо существование в мире музыкального бизнеса. Все, чего он хотел, — это нравиться публике и ладить с теми, от кого зависела его карьера. Армстронг всячески старался преуспеть и в том, и в другом, а тем временем окружавшие Луи люди обворовывали и обманывали его.
В этих условиях, даже если бы он захотел сражаться за своих друзей из оркестра Диккерсона, ему было бы трудно это сделать. Синглтон впоследствии уверял, что ансамбль Расселла в профессиональном отношении заметно уступал оркестру Диккерсона. По воспоминаниям Мадж, «однажды Затти пошел послушать игру Армстронга с его новой группой. За обедом он спросил Луи, как он может работать с такими музыкантами, на что тот ответил: „А я их даже не слышу“» .
На всю жизнь Синглтоны сохранили горечь обиды на Армстронга. Однако Маршалл Браун, впоследствии много работавший с Затти, утверждал, что Армстронг имел достаточно веские основания отказаться от совместных выступлений с Синглтоном. «Стиль игры Затти, — вспоминает Браун, — в некотором отношении был довольно примитивным… Луи нуждался в ударнике, который умел бы хорошо свинговать… Он хотел иметь рядом с собой музыканта типа Джина Крупы» .
Конечно, при желании Армстронг мог бы найти место для старого друга, тем более что в течение всей своей творческой карьеры Луи часто приходилось выступать с неравноценными ему и просто откровенно слабыми исполнителями. Как мне кажется, Армстронг не сделал этого по двум причинам. Во взаимоотношениях двух друзей доминирующей фигурой всегда был уверенный в себе Затти. Став звездой, Луи не захотел больше терпеть такое положение. Но еще более важную роль, видимо, сыграло другое обстоятельство. Синглтон относился к числу тех новоорлеанских музыкантов, к успехам которых Армстронг проявлял особую ревность. Чем-то она напоминала соперничество, которое иногда вспыхивает между родными братьями и сестрами.
Но, несмотря на эти и другие трудности во взаимоотношениях между Армстронгом и Синглтоном, их дружба продолжалась. После перенесенного в 1963 году удара Затти оказался частично парализованным. По словам его жены, Армстронг часто навещал больного друга, купал его, возил в инвалидном кресле. «Луи пытался брить Затти, — вспоминает Мадж, — и вообще всячески старался ему помочь, потому что знал, что Затти любит его, и он сам тоже его любил» .
К концу 1929 года время раздумий о том, какой дорогой идти дальше, миновало. Армстронг выбрал свой путь. Для этого ему пришлось расстаться со многими старыми друзьями. Вскоре из его жизни уйдет и Лил. Он отказывается от всего, в том числе и от прежней манеры игры, сделавшей его знаменитым. Его новый стиль, может быть, не уступал старому, но и лучше он тоже, безусловно, не был.
Из книги Джеймса Линкольна Коллиера «Луи Армстронг — американский гений»