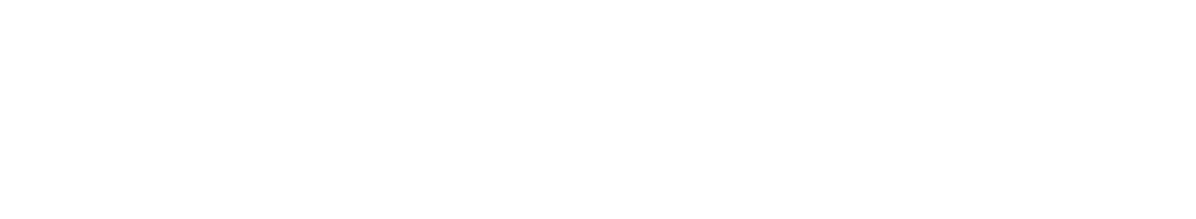На всю жизнь я сохранил в своей памяти образ политрука роты Трунова. И даже когда в октябре 1942 года был упразднеп институт комиссаров и политруков, и наш Трунов стал заместителем командира роты, и звание у него стало командирское: «старший лейтенант», мы по привычке продолжали называть его «товарищ политрук».
Мы одинаково уважали и командира роты Никифорова, и Трунова. По с замполитом все же говорить было проще: и пошутить с ним можно, и песню завести, а главное — ему можно было доверить самые сокровенные мысли…
Не скажу, чтобы Трунов был каким-то особенным. Роста среднего. Ходил в обыкновенной фронтовой шинельке с подпалинами. На ногах «кирзачи» такие же, как у помкомвзвода Авдеенко. И по летам мы с ним, пожалуй, одногодки. Но он умел быть и строгим начальником, и добрым другом. Начнет «стружку снимать» — так аж пот тебя прошибает и сам себе становишься ненавистным, если похвалит, то гордость в тебе такая разгорается, будто храбрее и бойца нет, и хочется что-то сделать такое, чтобы снова политрук тебя заметил и доброе слово сказал. Было оно для нас большой наградой.
Многое мы знали о нашем политруке. Ведь, когда день да ночь в одном окопе, под пулями, то человек как бы насквозь просвечивается — весь его характер виден. Одного мы не знали,— когда замполит отдыхает. Дня не проходило, чтобы он в землянках не побывал, с каждым из нас не поговорил. Придет в землянку или в ячейку и спросит: «Как воюем, давно ли письма получали, нет ли жалоб насчет питания?» Потом достанет газету и про все новости прочтет или расскажет. Не считал за труд побеседовать с двумя, а то и с одним человеком. В обороне бойцы нередко неделями из огневых точек не выходили. Особенно он понимал тех солдат, которые не ждали писем из родных мест. И когда другие товарищи читали весточки от матерей или жен или просто от знакомых девушек, то на душе становилось до того муторно, что и передать трудно. Вроде ты безродный.
Иногда я думал: воюешь ты, Федор, неплохо, уважаемым человеком стал, сам командир полка майор Попов при встрече руку пожимает. А кончится война? Где твоя хата, где маты, сестры, браты? Кому ты нужен? Что ж, снова па стройку в Норильск ехать?
Умом, конечно, понимаю: буду жив-здоров — и хата, и дело любимое найдется. Но для души…
И вот однажды подходит ко мне старший сержант Казаков:
— Танцуй, Федя! Тебе письмо…
— Быть того не может! Неоткуда мне получать письма! — Я даже разозлился на товарища. Думаю: разыгрывает меня. Только шуток в таком деле я не любил.
— Да нет же, чудак-человек, тебе письмо!
Взял конверт. II верно: «Федору Трофимовичу Дьяченко». Вроде мне, но почерк незнакомый. Даже страшновато открывать конверт. Распечатал и вынул листок в клеточку, видать, из ученической тетрадки. Буковки крупные и ровные, читать легко. Вот что было написано в том письме:
«Федя, мне написал твой друг, что ты уже истребил 59 фашистов. Я рассказала об этом девчатам. Они очень тебя благодарят и просили передать по большому привету от них. Федя, я горячо прошу тебя и твоих товарищей поскорее разбить кровожадного врага, который напал на нашу Родину…
Ждем вас всех только с победой. Валя».
Внизу прочел адрес: город Ташкент, улица Самаркандская, дом № 3, В. Иодьячева.
Я знал, что город Ташкент находится далеко в Средней Азии. Но вот как там про меня стало известно? Откуда незнакомая Валя узнала, что есть на свете Федор Дьяченко? Кто сообщил ей мой адрес?
Прочитал я письмо товарищам. Решили отвечать всем взводом. Может быть, наш ответ и не был таким душевным, как хотелось бы девушкам, но мы делились с ними своими солдатскими думами. Привожу письмо почти дословно: «Дорогие Валя и твои подруги! Письмо ваше нам прочитал Федор Дьяченко. Мы хотим выразить вам красноармейское спасибо, что не забываете нас. Обещаем, что, пока сердце бьется в груди, пока руки могут держать винтовку, мы будем искать, находить и уничтожать врага. Разве может успокоиться душа советского бойца, когда враги терзают его родную страну, мучают отцов и матерей, насилуюг любимых девушек? Мы клянемся: бить врага еще лучше, бить днем и ночью, до полного изгнания с нашей земли».
Долго шли письма из блокадного Ленинграда в солнечный Ташкент и обратно. Но теперь я стал каждый день ждать весточки. И тоже, как многие бонды, спрашивал старшину, когда он приносил пищу:
— А там мне письмишка нет?
С Валей Подьячевой я переписывался почти всю войну. Она рассказывала в письмах о своей жизни: работе, подругах, какие смотрит кинофильмы, что читает. Сообщала, как трудятся день и ночь в советском тылу люди, чтобы фронт ни в чем не испытывал нужды. Прислала свою фотокарточку. И мне казалось, что если встречу ее на улице, так сразу же узнаю, настолько знакомым стало мне ее лицо. Забегая вперед, скажу: после войны Валя приезжала в Ленинград. Мы с ней встретились. Она оказалась такой же, как на фотографии. С большим волнением вспоминали военные годы. Я благодарил ее за теплые и сердечные письма «незнакомому» бойцу на фронт, которые для меня в то время так много значили.
Узнал я и кто был «моим другом», который первым написал Вале обо мне. Этот секрет раскрыл Иван Денисенко. Однажды он спросил меня:
— Ты знаешь, от кого Валентина узнала про тебя?
— Ни, не ведаю!
— От нашего замполита…
— Не бреши!
— Правда. Я сам слышал, как ротный ему говорил: «Что-то наш Федя все понурым ходит. Небось по родной Полтавщипе скучает?» Замполит Трунов ответил: «Есть у меня адресок, вот и попрошу девушку написать бойцу».
Не знали мы тогда, что замполит, никогда не забывавший позаботиться о солдатской «душе», сам не получал писем почти с начала войны. Его семья тоже находилась в оккупации.
…Нелегко было вести политработу в осенние дни сорок второго года. Придет замполит в землянку, карту школьную расстелет. Оп всегда ее с собой носил для большей наглядности. Достанет газету и читает: «…наши войска вели бон с противником в районе Сталинграда и северо-восточнее Туапсе. Наши войска оставили город Нальчик…» Вот здесь, значит, фашист,— и обведет на карте карандашиком.
Мы смотрели, и душа холодела. Далеко, подлец, забрался. До самой Волги дошел, за Кавказ битва идет.
До войны мне пришлось бывать в тех краях. Понимаю, тянет Гитлер лапу к нефти. Нефть — это полетят самолеты, пойдут танки, -автомашины, еще сильнее закрутится колесо войны. Неплохо фашисты придумали. Нас нашей же нефтью бить!
Вот так смотрим на карту и раскидываем мозгами: как и что. И тревожно па сердце становится.
Замполит но торопится говорить. Словно ждет, чтобы сказанное пам до самых печенок дошло. Чтобы каждый нонял, какая опасность нависла.
Кое-кто из ребят начинает высказываться.
— Думаю, что в Кавказских горах и малыми силами воевать можно. Поставил, к примеру, на скалу пуломотик и дуй…— оторвав взгляд от карты, говорит пулеметчик Бажанов.
— Конечно! — с ехидцей подначивает Приходько, — А он тебе под зад с другой высотки дунет.
— Братцы, а чего союзнички помалкивают? Чего ждут? — заводится Иван Денисенко.
— Будто не знаешь? Да-они испокон веков на чужом горбу в рай ехали…
— А я так полагаю, скоро остановят фашиста. Встанет им костью поперек горла матушка Волга,— окая по-вологодски, неожиданно вступает в разговор наш молчун, немного глуховатый после контузии Михаил Федоров.
И начинается такой спор, будто именно здесь, в никому не ведомой роте, на крохотном участке огромного фронта судьба России решается.
Трунов слушает, пе перебивает. Ждет, пока выговорятся ребята. Потом прокашляется, набьет свою трубочку и начинает будто сам с собой разговаривать:
— Подавно я побывал в Ленинграде. Другой, другой, скажу вам, стал город. Подтянут п суров, как солдат. Совсем пе тот, что год назад… Познакомился я с одним пареньком. В райкоме партии встретились. Так, неприметный паренек, вроде паптего Славы Голубева. Молоденький. А узнал я про его дела-— ахнул! Вместо 83 сна- рядных стаканов он за смену вытачивает по 298 штук! Считайте, три с половиной нормы. Так работают в блокадном Ленинграде! В городе, про который Геббельс неустанно орет, что, дескать, Петербург — город мертвых.
Мы слушаем, думаем о том, как работают,-не жалея себя, люди в нашем тылу. II я вспоминаю Валины письма, в которых она просто и бесхитростно пишет о трудовом героизме своих подруг.
Умел Трунов не почитать нам. Казалось бы, чего проще — взял газету и шпарь. Между прочим, так некоторые и поступали. Ан, нет! Политрук такое в газетах находил, что слушаешь и думаешь: «Да то ж, вроде, про пас написано!» И мысли всякие появляются, и разговор сам собой о наших делах заводится.
Помню, однажды пришел к нам Трупов и спрашивает, как живете, то да се… А в глазах хитринка, что-то таит старший лейтенант.
— Послушайте, новую статью Оренбурга хочу вам почитать,— достает из полевой сумки «Боевую красноармейскую», расправляет.— Статья называется «Идет наша зима»…
Мы сдвигаемся поплотнее. Голос у Трунова тпхий, спокойный, да и пе любил оп, когда без внимания его слушают.
Илья Оренбург писал, что надвигается вторая военная зима. Боятся се фашисты. Боятся пе столько русского мороза, сколько ударов Красной Армии. Прошлой зимой их разгромили под Москвой. Такая же участь ждет захватчиков и под Сталинградом. За педелю нашего наступления одних плеппых более 30 тысяч взяли.
Лютует фашист: грабит, насилует, вешает, жжет па Украине, в Белоруссии, под Ленинградом, на Допу. Эренбург такие факты приводит, что стынет кровь в жилах. К мести за нашу поруганную землю, за кровь наших людей зовет писатель.
Трупов читает внятно, не торопясь. И вдруг я даже похолодел… «Хорошо бьет колбаспиков Федор Дьячспко. У него в сердце священный огонь ненависти, и пулю оп шлет фрицу прямо от сердца».
Я растерянно смотрю на ребят. Нет, пе могу поверить своим ушам. Такой знаменитый писатель не узнал обо мне!
— Товарищ политрук, откуда Оренбург узнал за Федьку? — перебивает Трунова Иван Денисенко.— Мы в окопах никакого писателя, кроме старшего лейтенанта из газеты, не бачили…
— О геройских делах бойца, как круги по воде от камушка, молва далеко расходится! — ласково улыбнувшись, отвечает старший лейтенант.
Трунов продолжает читать, а я все еще не могу справиться со своим волнением. «Как же теперь ты должеп воевать, Федор, ведь вся страна о тебе узнала?» — спрашиваю себя. И будто пе Трунов, а сам писатель мпе говорит: «Бейте врага еще сильнее! Час расплаты близок! Идет наша зима, друзья!»
— Это верно! Зимние они но то, что летние,— говорит Николай Бажанов, и в глазах его появляется озорной огонек. — Против русского солдата и русского мороза фашисты — слабаки!
Николай вновь с явным удовольствием рассказывает, как они прошлой зимой гнали гитлеровских вояк под Москвой. И мы, хотя слушаем рассказы Бажанова не первый раз, не перебиваем его. Участвовать в большом наступлении, освобождать города н села от захватчиков, гнать фашистов от Ленинграда — пока лишь наша мечта.
Но солдатским глазом примечаем, солдатским сердцем чуем — скоро погоним фашистов и мы! Трунов укреплял нашу веру в победу.
Уважали мы нашего ротпого политработника за находчивость и смелость. Он всегда находился там, где всего труднее, всего опаснее. И каждый хотел быть с ним рядом. Молва среди бойцов такая ходила — дескать, рядом с комиссаром пуля не берет. Вот и старались в бою быть рядом с замполитом. А может, и его берегли от пули. Помню, как-то мы проводили разведку боем — где перебежками, где ползком вышли к проволоке. Еще миг — и во вражеской траншее. Но тут фашисты накрыли нас из минометов. Те, кто бывал в подобных переделках,— устремились вперед. А несколько человек пазад было подались.
Замполит к ним:
— Стой! За мной, ребята! — И повернул их.
Потом начался бой в траншее. Хуже этого, кажется, ничего нет. Отовсюду жди пулю. Не зевай! Но трусь! Только смелостью да решительностью и можно выбить врага.
Замполит снова впереди. Одет в телогрейку, шапка, как у всех. Пе отличить от солдата. И воюет, как все. Только голос его громче, чем у других.
— Поддай, ребята! Не дрейфь, орлы!
…В конце ноября сорок второго года Трунова из пашей роты перевели в другое подразделение. Никифоров несколько дней ходил туча тучей. Почти три месяца они в одной землянке жили, из одного котелка ели. И по всему было видно: крепко наш командир любил своего комиссара.
Потом разные у нас замполиты были. Но мы долго не могли забыть Трунова, которого иначе, как «наш комиссар», никто и не называл.
Когда вышла в свет кпнга Л. И. Брежнева «Малая земля», я прочитал такие строки:
«Чем измерить, как оценить деятельность политического руководителя па фронте? Снайпер истребил десяток гитлеровцев — честь ему и слава. Рота отбила атаку, отстояла рубеж — честь и слава командиру роты и ее бойцам. Дивизия взломала оборону врага, освободила населенный пункт — имя командира отмечается в приказе Верховного Главнокомандующего. Но велика и заслуга политработника, который идейно вооружал бойцов, укреплял в пих великое чувство любви к Родине, вселял веру в своп силы, вдохновлял на подвиг.
Настоящий политработник в армии — это тот человек, вокруг которого группируются люди, оп доподлинно знает их настроения, пужды, надежды, мечты, он ведет их па самопожертвование, па подвиг».
Наш Трунов был одним из таких политработников. К сожалению, я не знаю его дальнейшей судьбы. Хочется верить, что оп жив и по-прежнему находится в рядах активных бойцов партии.
Из книги Ф.Т. Дьяченко «Нейтральная полоса»