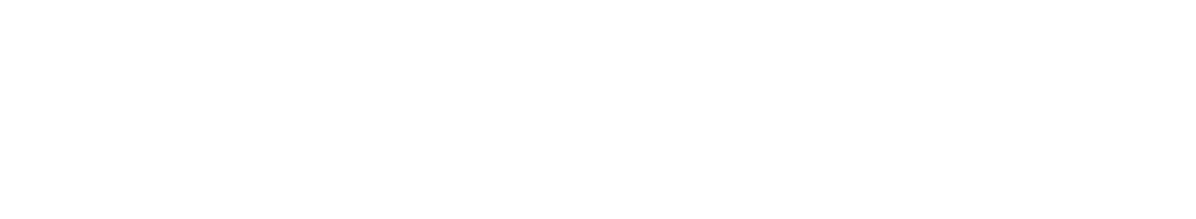В один из моментов затишья я приподнял голову и заметил, что к щели бежит какая-то женщина. Позади нее взорвался столб земли. Женщина вскрикнула. Она уже сидела. Сидела неподалеку от щели и легким движением поправляла на затылке волосы. Наши взгляды встретились, она близоруко прищурилась и вдруг улыбнулась. И от этой ее улыбки я сразу замер…
Она улыбнулась очень по-женски и чуть извиняюще. Что вот, мол, носятся какие-то несуразные самолеты, которые бросают на землю всякую гадость, а она из-за этого сейчас сидит так: не совсем красиво, платье ее испачкано и вдобавок у нее зачем-то оторвана одна нога. Но я должен простить ее, потому что вся эта нелепость в конце концов не имеет
никакого значения. Суть в ином. В том, что мы сейчас понимаем друг друга… Ведь так же?..
И я вдруг кивнул ей. Кивнул, пронзенный несоответствием ее лица, ее улыбки и всего того несчастья, что нас окружало… Потом эту женщину мы с товарищем внесли в санитарную машину, больше я ее никогда не видел. Только во сне…
Наша полуторка осталась невредима. Мы — нас было четверо — покатили дальше. Налеты прекратились, но на окраине города беспрерывно грохотала канонада. Я, как и мои товарищи, был студентом медицинского института. Институт эвакуировался вчера ночью, нам оставили грузовик и поручили вывезти часть оборудования, ценную оптику. Остановленные под Москвой гитлеровцы теперь рвались к Сталинграду и бакинской нефти. В конце июля пали Краснодар, Ставрополь, Майкоп. Настала очередь Армавира.
До склада мы доехать не смогли, нас остановили солдаты с автоматами.
— Вылезай! — приказал один из них. Лицо у него было потное, жесткое. Мы робко повыпрыгивали из кузова. Я сказал:
— Вы не имеете права. Мы должны доставить очень ценное оборудование!
— Плевать! Мы за них воюем, а они с барахлом возятся!
Двое грубо выдернули из кабины моего товарища. Солдаты залезли в кузов, и машина резко взяла с места. Мы отправились обратно.
Своего директора Арепьева нам удалось отыскать в полутемном подвале института. Он сидел в углу на корточках.
— Черт с ним, — узнав о судьбе полуторки и оборудования, сказал директор. — Теперь бы самим как-нибудь ноги унести!
Из Армавира уходили тысячи людей. Молча, торопливо, придавленные общей бедой и своими пожитками. У меня были только бритва и мыло. Я нес их в газетном свертке под мышкой. Все остальное на мне — рубашка, брюки, поношенные башмаки.
Самолеты возникли неожиданно. Они не появились, а как бы проявились из неба. Тяжелые, неуклюжие, точно навозные мухи. Все закричали, побежали по сторонам, начали прятаться куда попало. Земля забила фонтанами грязи, щепок, камня и человеческих тел. Многие, не найдя укрытия, лежали и не двигались. И было непонятно — мертвы они или еще нет. Затем внезапно все прекратилось. Кто мог, сразу поднялись и пошли дальше.
Весь оставшийся вечер, всю ночь мы шли и шли. К утру наткнулись на крошечную железнодорожную станцию. Вокруг нее раскинулся бивак из нескольких тысяч беженцев. На путях стояли два эшелона. Один с зерном, другой с боеприпасами. Оба состава были сплошь облеплены людьми. Мы забрались в вагон и принялись черпать горстями сырое зерно.
Наесться никто не успел — снова показались самолеты. Как только я упал в ров, взорвался эшелон с боеприпасами. «Лотерея, — подумал я. — Мы могли сесть на него». Трупов я уже насмотрелся, но такого количества еще не видел. Почти час я разыскивал товарищей, директора. Их нигде не оказалось, и я пошел прочь с этой станции. Босиком. Ботинки я потерял, когда соскакивал с вагона. С убитого я их снять не мог.Через сутки я на товарняке доехал до Нальчика. Оттуда опять пешком направился в Орджоникидзе. Там должен был временно базироваться наш институт. Двое моих товарищей были уже здесь, третьего убило на станции.
На другой день поздно вечером в Орджоникидзе приплелся Арепьев. Он зачем-то встал на колени перед своей женой и, никого не стыдясь, заплакал. Она стояла перед мужем с перекошенным от страдания лицом и молча гладила его по голове… На одной из станций я решил отстать. В девяти километрах находилась моя деревня. Со мной сошел товарищ — Димитрий, грек.
— Война, — сказал я ему. — Дома, может, больше и не увижу, а тут совсем рядом.
— А институт? — спросил он.
— Нагоним! Пока в Баку насчет барж договариваться будут, не меньше двух дней пройдет.
Вместе с Димитрием я, наконец, добрался до своего дома. Село было расположено на склоне горы — мы пришли к нему через перевал сверху. На окраине я встретил деда Махмуда. Он сидел на завалинке сакли в своей вылинявшей черкеске, курил трубку. Я громко сказал:
— Здравствуй, дед Махмуд!
Он поднял на меня глаза, уставшие смотреть на жизнь девяносто с лишним лет, ничего не ответил. Потом дед оглядел моего товарища и вдруг, как будто видел меня только вчера, спросил:
— Ты пришел со своим другом?
Я улыбнулся. Мне стало очень хорошо. Этот дед всегда вселял в меня прочность бытия. Прежде всего тем, что он долго жил. Сейчас, глядя на него, я вдруг с удивлением почувствовал, что в жизни все равно ничего не изменится. Война, голод, разруха — это лишь плохой сон. Все опять будет по-прежнему. Как этот дед.
Дед Махмуд произнес:
— Ты домой, Степа?
— Да! — Я опять улыбнулся. — Я хочу увидеть свою мать, сестер и братьев! Потом я пойду обратно.
Дед несколько раз покивал головой, а после паузы сказал:
— Не ходи, сынок.
— Почему?
— Потому что ты и твой друг голодны.
— Да, дед, — подтвердил я. — Мы голодны. Но мы съедим совсем мало, мы уже договорились.
Дед повторил:
— Не ходи, сынок. Твоя мать стареет, но она здорова. И сестры твои и братья — они тоже живы. И твой дом, смотри, стоит на том же месте. Если ты туда спустишься, они зарежут для тебя и твоего друга свою козу.
— Да, — проговорил я. — Они так и сделают.
Дед Махмуд долго молчал и глядел на мои босые ноги. Потом сказал:
— Потерпи, сынок. Ты им отец. Потерпи…
Дед Махмуд накормил меня и Димитрия овсяной кашей. Мы съели целый чугун. Он подарил мне свои онучи.
Я сказал:
— Дед, я обязательно с тобой расплачусь.
— Деньги, сынок, онучи, каша — все ничто. Между людьми есть только один счет — добро. Я сделал его тебе, ты — другому, он — третьему. Пусть это добро пойдет по кругу и, может, когда-нибудь возвратится ко мне. И чем больше добра, сынок, ты сотворишь, тем больше надежды у меня на это будет.
Перед уходом я спрятался за саклей деда Махмуда и долго глядел на свой дом. Я увидел братьев — они носили из-под горы ведрами воду и заполняли ею большую бочку. Потом вышли мои сестры — они принялись стирать белье в чане и развешивать его на веревке. Не было только матери… Я не уходил и ждал, когда она появится. Ко мне подошел Димитрий, напомнил:
— Темнеет, надо идти.
— Сейчас, — ответил я, — Еще чуть.
Он тактично удалился.
«Мама, — стал молить я про себя, — выйди. Я же тут, мама. Ты должна это почувствовать…»
И она вышла. И прямо с порога стала беспокойно оглядываться. Я замер. Неужели она почувствовала мое присутствие? Походив по двору, мать сделала какое-то замечание сестрам,
заглянула в наполнявшуюся бочку, затем направилась обратно в дом. Исхудавшая, с первыми признаками старческой походки, она вдруг остановилась и обернулась в мою сторону.
Я затаился. Малейшее движение могло выдать меня. Мать отвернулась от меня и вошла в дом. Согбенно, понуро… Вместе с Димитрием я зашагал прочь из села. Меня душили боль,
слезы и ненависть к фашистам, из-за которых я должен был бояться глаз собственной матери. Я вдруг понял, что именно эта мразь и выдумала самую унизительную философию: «Человек рожден для страданий».
— Вранье! Человек рожден для человека. Для своей матери, для своих сестер, для своих братьев, для своего дома, для своей земли, какой бы она ни была каменистой…
Мириады миров взирали на нас сверху, равнодушно мерцали холодным блеском. Каждый мир существовал по отдельности, ни одному из них не было до нашей жизни дела. Везде, видимо, хватало своих бед и болей, как сейчас под Курском, где шла самая кровавая битва за всю войну. Я подумал: «Почему так? Всюду бесконечно возникают неисчислимые
страдания, а мы безропотно их принимаем? Неужели мы действительно рождены для этого? Смиряться и видеть смысл в том, чтобы от воя бомб утыкаться лицом в грязь? Чтобы той женщине оторвало ногу? Чтобы Арепьев плакал перед своей женой на коленях? Чтобы я шел прочь из дома, так и не показавшись на глаза своей матери?»
В этот день я навсегда возненавидел человеческое страдание.
Отрывок из книги В. Брумеля и А. Лапшина «Не измени себе».
Продолжение истории читайте здесь: https://historytime.welix.ru/poznavatelno/otryivki-iz-memuarov/voznenavidet-stradanie-chast-2/