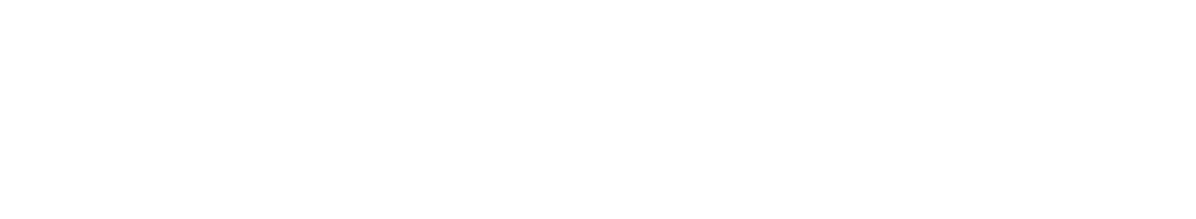Он был на редкость умен. Но ум его с гораздо большей очевидностью обнаруживался в суждениях о людях, и о том, что несколько расплывчато можно назвать жизнью, чем в области отвлеченных логических построений. Людей он видел насквозь, безошибочно догадывался о том, что они предпочли бы скрыть, безошибочно улавливал малейшее притворство. Думаю, что вообще чутье к притворству, — а в литературе, значит, ощущение фальши и правды,— было одной из основных его черт. Вероятно, именно это побудило Бунина остаться в стороне от русского доморощенного модернизма, в котором по части декламации и позы далеко не все было благополучно. Был ли он, однако, полностью прав в своей брезгливой непримиримости, не проглядел ли чего-то такого, во что вглядеться стоило, не обеднил ли себя, отказавшись прислушаться к отдельным голосам, по природе чистым, звучавшим в шумном, нестройном хоре русской литературы начала нашего века,— преимущественно в поэзии? Не оказался ли высокомерно-рассеян к содержанию, к духовной особенности эпохи, отраженной в безотчетном смятении, в предчувствиях, в тревоге и надежде, которыми поэзия эта была проникнута, — отчетливее и глубже всего, конечно, у Блока? Вопрос это спорный, и лично у меня на счет бунинской дореволюционной литературной позиции до сих пор остаются сомнения. Он часто на эти темы говорил, с удовлетворением, даже с удовольствием к ним возвращался, вспоминая далекие годы, когда Леониду Андрееву или двум-трем другим тогдашним кумирам отдавались в журналах первые места, платились огромные гонорары, а он, Бунин, пребывал в тени: приятной,- почетной, прохладной, но все-таки в тени. Он радовался своему долгожданному реваншу, доказывал свою дальновидность и правоту, гордился тем, что Чехов,— «Да, да, один только Чехов!» — предсказал ему очень большое литературное будущее и реванш предчувствовал.
У меня никогда не хватило смелости спросить его, помнит ли он то, что о его писаниях сказал Толстой, и никогда, ни в одном разговоре, он толстовского отзыва о себе не коснулся. Конечно, он знал его и, вероятно, с горечью помнил, что Толстой признал прочитанный им рассказ Бунина пустоватым, хотя и написанным так, как «ни мне, ни даже Тургеневу не
написать». Должен, однако, подчеркнуть, что на его глубочайшем преклонении перед Толстым этот двоящийся приговор ни в какой мере не отразился и что за все мои встречи с Буниным я не слышал от него ни одного сколько-нибудь скептического, мало-мальски неприязненного слова о Толстом. Может быть, он отчасти был согласен с Алдановым, считавшим, что замечание насчет «меня и даже Тургенева» должно быть всяким писателем воспринято как нечто чрезвычайно лестное. Да надо принять во внимание ведь и то, что Толстой ничего, кроме юношеских произведений Бунина, не знал и ни «Деревни», ни «Суходола», положивших начало его художнической зрелости, прочесть не успел.
О Толстом он говорил постоянно. Вспоминал, как в начале девяностых годов пришел к нему в Хамовники, пытался даже по своей привычке изобразить Толстого. «Быстрый, страшный, со своими страшными, cерыми, глубоко запавшими глазами… я даже чуть…», — но тут следовало несколько слов, которые воспроизвести в печати невозможно. Любил
рассказывать, как Толстой нахмурился, когда он простодушно, желая сказать что-нибудь такое, что тому понравилось бы, упомянул о все большем распространении Обществ Трезвости.
— Общества Трезвости? Это что такое? Собираются и болтают, что не надо пить водки, да? Если уж собираются, то надо пить водку.
Из-за Толстого произошло у меня и расхождение с Буниным, правда, единственное. Я поместил в «Современных Записках» довольно большую статью, где писал о влиянии Толстого на бунинское творчество. В конце статьи я заметил, что влияние это не идет далеко вглубь и что духовная сущность толстовских писаний, в особенности поздних, осталась Бунину
чужда. В статье была фраза, формально, пожалуй, неудачная, но, как мне и теперь представляется, не совсем,— нет все-таки не совсем,— ошибочная: смысл ее состоял в том, что в Бунине есть что-то от Льва Толстого и что-то другое, от этакого бравого патриота-служаки, молодцеватого командира полка, «слуги царю, отца солдатам», никаких вольностей от
веками установленного порядка не допускающего. Бунин жестоко обиделся. Если при встречах он и здоровался со мной, то даже руку подавал как-то небрежно, глядя в сторону, и только после присуждения ему Нобелевской премии, во всеобщем тогдашнем возбуждении и радости, добрые мои отношения с ним полностью восстановились и все улучшались, укреплялись до конца его жизни. Добавлю, что этот «командир полка» был в нем чертой скорей поверхностной, больше всего заметной в его нетерпеливых, раздраженных восклицаниях, как только задеты оказывались вопросы общественные.
Едва ли тому же следовало бы приписать его гневный отказ признать превосходство этики над эстетикой, что так существенно для Толстого,— или даже их толстовскую нерасторжимость, — да с течением времени многое в бунинских внутренних противоречиях и сгладилось, может быть, под воздействием всего пережитого и, как говорится, «переосмысленного» во время войны. Однако какое-то безотчетное противостояние Толстому не исчезло у Бунина никогда, и если перечесть, например, «Несрочную весну», один из самых восхитительных, самых вдохновенных его рассказов, то нельзя не почувствовать, что по замыслу и устремлению что-нибудь более антитолстовское трудно себе и представить. «Красота спасет мир»,— сказал Достоевский. Бунин Достоевского терпеть не мог, но с этим его утверждением, пожалуй, согласился бы, хотя и разошелся бы в истолковании понятия красоты.
Отрывок из книги Г. В. Арцимовича «Бунин».
Читайте вторую часть: https://historytime.welix.ru/poznavatelno/otryivki-iz-memuarov/ob-ivane-bunine-chast-2/