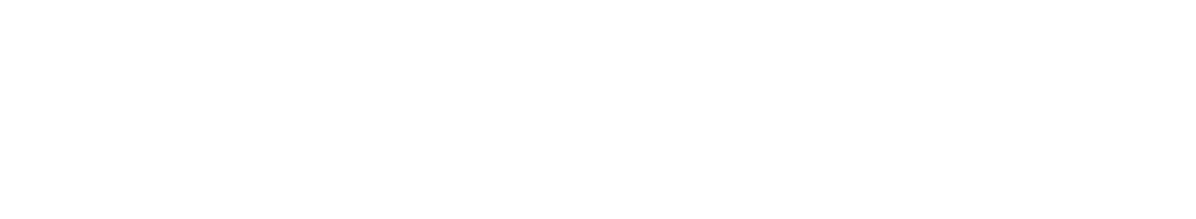…Так посреди празднеств, оперных спектаклей и ужинов подвигалась вперед моя миссия. Король желал, чтоб я говорил с ним обо всем, и я, разговаривая об Энеиде и Тите Ливие, примешивал вопросы о делах Франции и Австрии. Иногда разговор оживлялся, король горячился и говорил, что пока наш двор будет стучаться во все двери, чтоб добиться мира, он не подумает драться из-за него. Я прислал ему из своей комнаты мои размышления по этому поводу, написанные на бумаге перегнутой пополам в виде полей. Он написал ответ на этих полях на мои смелые взгляды. Я сохранил еще страницу, на которой я писал ему: «Разве вы думаете, что австрийский дом при первом же случае не потребует от вас Силезии?» Вот его ответ, написанный на полях:
Ils seront recus biribi,
A la facon de barbari,
Mon ami.
(Этот непереводимый шуточный куплет имеет такой смысл: «Они будут встречены как варвары, мой друг».)
Эти необыкновенные переговоры окончились словами, которые он сказал мне в минуту раздражения против английского короля, своего дяди. Оба короля не любили друг друга, причем прусский король говаривал: «Георг — дядя Фридриху, но не дядя прусскому корою». Наконец он сказал: «Пусть только Франция объявит войну Англии, и я двинусь в поход». Больше мне ничего и не было нужно. Я вернулся во Францию и отдал отчет о своем путешествии, сообщив о надежде, которую мне дали в Берлине. Надежда эта не обманула, и следующей весной король прусский заключил новый трактат с королем Франции. Он вступил в Чехию с войском в сто тысяч человек, в то время как австрийцы были в Эльзасе. …
Король прусский, которому я часто говорил, что никогда не расстанусь для него с госпожой дю Шатле, во что бы то ни стало, хотел привлечь меня к себе, когда избавился от своей соперницы. Он наслаждался в то время морем, приобретенным путем побед, и досуги его были заняты сочинением стихов или писанием истории своей страны и своих походов. Он был не на шутку убежден, что его стихи и его проза, в сущности, несравненно лучше моих, но считал, что я в качестве академика могу придать некоторый лоск его сочинениям, и старался заманить меня к себе самыми лестными обещаниями.
Возможно ли противится королю — победителю, поэту, музыканту, вдобавок, делающему вид, что меня любит! Мне и самому показалось, что я его люблю, и вот, наконец, я снова направил свой путь к Потсдаму в июне 1750 года. Я был принят великолепно. Меня поместили в покой, в которых прежде жил маршал Саксонский, в моем распоряжении были королевские повара, когда я хотел обедать у себя и королевские кучера, когда мне хотелось кататься — все это было малейшей из оказываемых мне милостей. Ужины были весьма приятны. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что за ними говорили много остроумного: король был остроумен и вызывал остроумие. Самое удивительное при этом то, что я никогда не чувствовал себя более свободным за столом. Я работал каждый день два часа с его величеством; я исправлял все его работы, никогда не забывая усердно хвалить то, что в них было хорошего, в то время как вычеркивал то, что никуда не годилось. Я все поправки объяснял ему письменно, и эти письма составили ему руководство к риторике и поэтике для его личного употребления. Он воспользовался моими замечаниями, но его гениальный ум помогал ему гораздо более чем мои уроки. Придворный этикет меня не касался… Фридрих, заметив, что у меня начинает кружиться голова, удвоил опьяняющие напитки, чтоб очаровать меня окончательно. Последним соблазном было письмо, присланное им из своей комнаты в мою. Любовница не может выражаться с большей нежностью. Он старался в этом письме рассеять опасения, внушаемые мне его саном и его характером. Там стояли, между прочим, следующие слова: «Как могу я сделаться причиной несчастья человека, которого уважаю, люблю, который пожертвовал для меня родиной и всем, что есть у человека самого дорогого. Я почитаю вас как наставника в красноречии. Я люблю вас как добродетельного друга. Какого рабства, какого несчастья, какой перемены можете вы опасаться в стране, где вас уважают так же, как у вас на родине, и в гостях у друга, одаренного благодарным сердцем? Я относился с уважением к дружбе, связывавшей вас с госпожой дю Шатле; но после нее я был вашим старейшим другом. Я обещаю вам, что вы будете счастливы здесь, пока я жив». — Вот письмо, которое немногие государи способны написать. Это был последний бокал, который меня опьянил окончательно. Словесные изъявления были еще более энергичны, чем письменные. У него была привычка странным образом выражать свою нежность к более молодым, чем я фаворитам, и он, забывая на минуту, что я не был их возраста, и что рука моя некрасива, взял ее, чтобы поцеловать. Я поцеловал тогда его руку и сделался его рабом.
Чтоб служить двум господам, необходимо было разрешение короля Франции. Король прусский взялся выхлопотать это разрешение. Он написал моему королю по этому поводу….
И вот я очутился с серебряным ключом на кафтане, с крестом на шее и с двадцатью тысячами франков пенсии в кармане. Мопертюи со злости захворал, а я этого и не заметил. В Берлине был в то время врач по имени Ля-Метри, самый отъявленный атеист из всех медицинских факультетов Европы; впрочем, человек веселый, забавный, легкомысленный, знавший теорию не хуже других своих собратьев и, безусловно, самый плохой врач в мире на практике; но он, слава Богу, не практиковал. Он высмеивал всех парижских профессоров и лично затронул в своих сочинениях многих лиц, которые этого ему не могли простить и добились указа об его аресте. Поэтому Ля-Метри бежал в Берлин, где всех забавлял своей веселостью. В своих писаниях он самым дерзким образом оскорблял мораль. Сочинения его понравились королю, который сделал его не своим доктором, а своим чтецом. Однажды по окончании чтения Ля-Метри, говоривший королю все, что ему приходило в голову, сказал ему, что он завидует моему положению и моему состоянию. «Полноте, — сказал ему король, — апельсин выжимают и бросают, выпив из него сок»…
У короля, распечатывавшего мои письма, явилось подозрение, что я не рассчитываю остаться у него. А между тем страсть к стихотворству обуяла его так же, как царя Диониса. Мне приходилось исправлять беспрестанно и, кроме того, просматривать его «Историю Бранденбурга» и все, что он писал. Ля-Метри умер… Говорили, что он перед смертью исповедывался. Король был возмущен и расспрашивал, как было, в сущности, дело. Его уверили, что это ужасная клевета, и что Ля-Метри умер как же, как жил, отрицая Бога и докторов. Его величество был доволен и тотчас сочинил ему надгробное слово, которое приказал своему секретарю Доржэ прочитать от его имени на публичном собрании в Академии. Он дал, кроме того, пенсию в 600 ливров публичной женщине, которую Ля-Метри привез с собою из Парижа, оставив там жену и детей.
Мопертюи, узнавший анекдот о выжатом апельсине, теперь принялся распространять слух о том, будто я сказал, что должность атеиста при короле вакантна. Эта клевета не удалась; но он прибавил к этому, что я нахожу стихи короля плохими, и это имело успех. Я заметил, что после этого ужины короля были менее оживлены, мне давали меньше стихов для исправления…
Я чувствовал, как должна была не нравиться моя свобода монарху, более абсолютному, нежели турецкий султан. Надо сознаться, что в домашнем обиходе это был забавный король. Он протежировал Мопертюи и высмеивал его более, чем кого бы то ни было. Он начал писать против него и прислал мне свою рукопись с одним из исполнителем его тайных утех, с неким Марвицем. Он поднял на смех выдуманную им дыру к центру Земли, его метод лечения, намазыванием тела смолой, путешествие к северному полюсу, латинский город и подлость его академии, не возражавшей против насилия, которому подвергся бедняга Кениг. Но так как девизом его было: никакого шума, кроме того, который делаю я сам, то он приказал сжечь все, что было написано по этому поводу, кроме своего собственного сочинения…
Нас четверо бежали в короткое время: Шазо, Даржэ, Альгаротти и я…
Всякий знает, что вблизи монархов приходится терпеть; но Фридрих уж слишком злоупотреблял своим преимуществом… Фридрих всегда преступал первый закон общества: никому не говорить ничего неприятного. Он же часто спрашивал своего камергера Польнитца, не переменит ли он веру еще в четвертый раз, и предлагал сто экю за новое обращение «Ах, Боже мой, милый Польнитц, — говорил он, — Я забыл, как звали того человека, которого вы обокрали в Гааге, продав ему, поддельное серебро за настоящее: помогите-ка мне вспомнить». В том же роде было его обращение с бедным д’Аржаном…
Англия затеяла в 1756 году поистине разбойничью войну с Францией из-за нескольких десятин снежных полей. В это же время императрица и королева Венгрии выказала поползновения вернуть себе дорогую ее сердцу Силезию, отнятую у нее прусским королем. По этому поводу она вела переговоры с русской императрицей и польским королем, только как с курфюрстом Саксонским, так как с поляками переговоры вести нельзя. Король Франции со своей стороны, хотел выместить на ганноверских землях вред, причиняемый ему на море королем Англии. Фридрих, бывший в то время в союзе с Францией и глубоко презиравший наше правительство, предлагал вступить в союз с Англией и соединился ганноверским домом, рассчитывая одной рукой помешать русским вступить в Пруссию, а другой французам вторгнуться в Германию. Он ошибся в обоих своих предположениях; но у него была еще третья идея, в которой он не обманулся: он задумал занять, под предлогом дружбы, Саксонию и воевать с императрицей, королевой Венгрии на деньги, отнятые у саксонцев. Маркграф Бранденбургский этим маневром изменил положение Европы. Король Франции, желая удержать его своим союзником, послал ему герцога Нивернуа, человека остроумного, писавшего красивые стихи. Посольство герцога, пэра Франции и поэта должно было, казалось, польстить Фридриху: он поднял короля Франции на смех и подписал договор с Англией в тот самый день, когда посланник приехал в Берлин. Он весьма учтиво обошел герцога и пэра и сочинил эпиграмму на поэта. Урожденная Пуассон, госпожа Ле Норман, маркиза Помпадур была фактически первым министром Франции. Некоторые оскорбительные замечания по ее адресу со стороны Фридриха, не щадившего ни женщин, ни поэтов, уязвили маркизу в самое сердце, и не мало способствовали тому перевороту в делах, который моментально соединил дома Франции и Австрии, считавшиеся в течение двухсот лет непримиримыми врагами. Французский двор, стремившийся в 1741 году раздавить Австрию, оказывал ей поддержку в 1756. Наконец Франция, Россия, Швеция, Венгрия, половина Германии — все это поднялось против одного Маркграфа Бранденбурского. Государь этот, дед которого с трудом мог содержать двадцать тысяч человек пехоты, имел 100 тысяч пеших и 40 тысяч конных солдат, отлично обученных и снабженных всем необходимым. Но ведь против него было 400 тысяч человек под ружьем.
В этой войне каждая сторона захватывала, прежде всего, все, что могла захватить. Фридрих захватил Силезию, Франция — владения Фридриха от Гельдерна до Миндена на Ведере, и завладела на некоторое время всем собирательным княжеством Ганноверским и Гессенским, союзным Фридриху. Русская императрица заняла всю Пруссию, король прусский потерпел поражение от русских; сам побил австрийцев и затем был ими побит в Чехии 18 июня 1757 года (сражение при Коллине).
Казалось, потеря одного только сражения должна была совершенно уничтожить этого монарха. Теснимый со всех сторон русскими, австрийцами и французами, он сам считал себя погибшим. Маршал Ришелье заключил с Ганновером и Гессеном договор, похожий на договор Кавдинского ущелья. Войска их должны были бездействовать; маршал готовился уже вступить с 60 тысячами войска в Саксонию, принц Субиз должен был вступить в нее с другой стороны с 30 тысячами. Ему, кроме того, помогали австрийцы. Отсюда намеревались двинуться на Берлин. Австрийцы выиграли второе сражение и уже вступили в Бреславль. Один из их полководцев даже доходил до Берлина и обложил его контрибуцией. Казна прусского короля была почти истощена, и скоро у него не осталось бы ни одного селения. Его готовились объявить опальным империи; процесс его уже начался; он был объявлен бунтовщиком, и если бы он попался в руки неприятеля, то по всей вероятности, был бы приговорен к смертной казни.
В таком ужасном положении ему пришло в голову покончить с собой. Он написал своей сестре маркграфине Байрейтской, что хочет лишить себя жизни. Но он не хотел закончить пьесу своей жизни, не написав стихов; страсть к поэзии была в нем сильнее ненависти к жизни. Поэтому он написал к маркизу д’Аржанс длинное послание в стихах, сообщая ему о своем решении и прощаясь с ним.
Он прислал мне это послание, написанное его собственной рукой. В нем попадаются двустишия, украденные у Шалье и у меня. Мысли в нем спутаны, стихи, в общем, плохи, но есть и не дурные. Написать послание в двести плохих стихов в том состоянии, в котором он находился — не шутка.
Ему хотелось, чтоб сказали потом, что он вполне сохранил присутствие духа и свободу мысли в такую минуту, когда другие смертные обыкновенно плохо владеют собой. Письмо его ко мне выражает те же чувства, но в нем менее «мирт и роз» и «глубокой печали». Я старался в прозе отклонить его от решений покончить с собой. Как он говорил, мне не стоило большого труда убедить его сохранить жизнь. Я посоветовал ему вступить в переговоры с маршалом Ришелье, подражая герцогу Куберлендскому. Одним словом, я позволил себе все, что можно позволить себе по отношению к отчаявшемуся поэту, готовому потерять свое царство. Он, действительно, написал маршалу Ришелье, но, не получив ответа, решился напасть на нас и сообщил мне, что готовится сразиться с принцем Субиз. Письмо его оканчивалось стихами, более соответственными его положению, его достоинству, его мужеству и его уму. Выступая против французов и императорских войск, он написал маркизе Байрейтской, своей сестре, что идет на смерть. Но он был счастливее, нежели говорил и думал. 5 ноября 1757 года он дождался неприятеля в довольно выгодном месте, при Росбахе, на границе Саксонии и т.к. он все еще говорил о том, что хочет быть убитым, то хотел, чтоб брат его принц Генрих, выполнил его план, став во главе 5 батальонов пруссаков, которые должны были вынести первый напор неприятельский армий, тогда как артиллерия его будет их обстреливать, а его кавалерия нападать на их конницу. Действительно, принц Генрих был легко ранен в шею, и это был, кажется, единственный прусский раненый в этот день. Французы и австрийцы бежали при первом залпе. Это было самое полное поражение когда-либо отмеченное историей. Битва при Росбахе надолго останется знаменитой. 30 тыс. Французов и 20 тыс. императорских войск обратились в постыдное бегство при встрече с 5 батальонами и несколькими эскадронами. Поражение при Азенкуре, Кресси и Пуатье не были столь унизительны. Настоящая причина этой странной победы была дисциплина и обучение войска, установленная отцом и укрепленная сыном. Прусское военное обучение усовершенствовалось в течение 50 лет. Ему захотели подражать как во Франции, так и в других государствах; но в 3-4 года нельзя было сделать с плохо поддающимися дисциплине французами, то, что сделано было в 50 лет с пруссаками. Во Франции меняли даже маневры чуть ли не на каждом смотру, так что офицеры и солдаты плохо обучившись новым, совершенно несходным между собой приемам, равно ничего не знали и не имели, в сущности, ни дисциплины, ни знания. Поэтому при одном лишь виде пруссаков все бежали без оглядки, и счастье дало возможность Фридриху в течение четверти часа перейти от отчаяния к радости и славе. Однако он сильно опасался, что счастье это будет непродолжительным. Он боялся, что должен будет выдержать всю тяжесть могущества Франции, России, Австрии, и ему хотелось поссорить Людовика XV с Марией-Терезией… Роковая битва при Росбахе вызвала во всей Франции ропот против договора аббата Берни с венским двором. Архиепископ Лионский, противник союза с австрийским двором, вошел со мной в дружбу с целью побудить маркграфиню Байрейтскую довериться ему и отдать в его руки интересы ее брата короля. Ему хотелось помирить прусского короля с французским и тем восстановить мир. Маркграфиню и брата ее нетрудно было склонить к этим переговорам, и я взял их на себе тем охотнее, что предвидел полную неудачу. Маркграфиня написала от имени своего брата короля. Через мои руки проходили все письма маркграфини и кардинала. Я имел удовольствие быть посредником в этом важном деле и еще, может быть, большее удовольствие предвидеть, что мой кардинал готовит себе большие неприятности. Он написал прекрасное письмо королю и переслал ему письмо маркграфини, но, к его удивлению, король весьма сухо ответил ему, сообщив, что статс-секретарь иностранных дел сообщит ему о его решении. И действительно, аббат Берни продиктовал кардиналу ответ, который он должен был дать маркграфине: это был резкий отказ вступить в переговоры. Он должен был подписать подлинник письма, который прислал ему аббат Берни.
Ганноверцы, брауншвейгцы и гессенцы не были столь верными своим договорам, и это им послужило на пользу. Они условились с маршалом Ришелье, что не будут служить против нас, что они перейдут обратно Эльбу, за которою их прогнали; они нарушили свой договор, как только узнали, что мы разбиты при Росбахе. Отсутствие дисциплины, дезертирство, болезни уничтожили нашу армию, и результатом всех наших военных операций оказалось весной 1758 г., то, что мы потеряли в Германии 300 миллионов деньгами и 50 тысяч людьми, сражаясь за Марию-Терезию, т.е. столько же, сколько в войне 1741 года, когда сражались против нее. Король прусский, разбив нашу армию при Росбахе в Тюрингии, двинулся против австрийский войск, стоявших за 60 миль оттуда. Французы могли бы еще вступить в Саксонию т.к. победители были в другом месте Германии, и ничто не остановило бы французские войска; но они побросали оружие, растеряли пушки, боевые запасы, съестные припасы, главное, потеряли голову — и рассеялись. С трудом были собраны остатки войск.
Фридрих же, месяц спустя, день в день, выигрывает близ Бреславля новое сражение, более значительное и при большем сопротивлении австрийцев. Он берет назад Бреславль и 15 тыс. пленных, остальная Силезия присоединяется к нему; Густав Адольф не совершал более блестящих подвигов. Как было не простить ему его стихов, его коварных шуток, и даже его прегрешений против женского пола. Все недостатки человека стушевались перед славой героя….
Я хочу здесь рассказать маленькое приключение, наиболее странное из когда-либо случавшихся на земле с тех пор, как существуют поэты и короли. Фридрих, долгое время охранявший границы Силезии в совершенно неприступной местности, соскучился и, чтобы убить время, сочинил оду против Франции и против короля. В начале 1759 года он прислал мне эту оду, подписанную: Фридрих, вместе с толстым пакетом стихов и прозы. Открываю пакет и вижу, что он был уже вскрыт раньше, чем дошел до меня: очевидно, по дороге его распечатывали. Я задрожал от страха, прочитав эти стихи (* здесь приведено несколько строф из оды, весьма оскорбительной для короля и маркизы Помпадур), между которыми попадались и весьма недурные или такие, которые могут сойти за хорошие. К несчастью, всем было известно, что я поправлял стихи прусского короля. Т.к. пакет был вскрыт по дороге, то стихи проникнут в публику, король Франции подумает, что я их автор, и я окажусь виновным в оскорблении величества, а что еще хуже в оскорблении госпожи де Помпадур. В этом затруднительном положении я пригласил к себе французского резидента в Женеве и показал ему пакет; он признал, что пакет был вскрыт раньше. Он думает, что в таком деле, за которое можно поплатиться головой, мне ничего не остается, как только послать этот пакет первому министру, герцогу Шуазелю. При других условиях я бы этого не сделал; но надо было отвратить грозящую мне погибель. Я давал возможность двору ознакомиться с характером его врага. Но я знал, что герцог Шуазель не злоупотребит моим доверием и ограничится тем, что убедит короля Франции в том, что прусский король его непримиримый враг, которого, по возможности, необходимо уничтожить. Герцог Шуазель этим не ограничился. Он отплатил прусскому королю той же монетой и прислал мне оду против Фридриха, столь же злую и ядовитую, как и ода Фридриха против нас.
Прислав мне этот ответ, герцог уверил меня, что напечатает его, если король прусский напечатает свою оду, и что мы побьем Фридриха пером так же, как надеемся побить его оружием. Я мог бы, если бы захотел, доставить себе это удовольствие, видеть как король французский и король прусский ведут между собой войну стихами — это было бы еще никем в мире не виданное зрелище. Но я доставил себе иное удовольствие, выказав себя благоразумнее Фридриха: я написал ему, что ода его прекрасна, но что он не должен отдавать ее на суд публики; ему этой славы не нужно, и он не должен закрывать себе пути к примирению с королем Франции, не должен окончательно озлоблять его и принуждать направлять все свои усилия, чтобы отомстить… Он поверил…
Чтобы довершить эту шутку, я вздумал положить в основу европейского мира эти два стихотворения, которые должны были продлить войну до тех пор, пока Фридрих не будет побежден. Эта идея родилась в моей голове, благодаря переписке с герцогом Шуазель, и показалась мне столь забавной, столь достойной того, что происходило в то время, что я ухватился за нее. Я доставил сам себе удовольствие доказать на деле, как малы и слабы государственные деятели, двигающие судьбы государств. Герцог Шуазель написал мне несколько официальных писем, составленных таким образом, чтоб не внушить Австрии опасений против Франции; Фридрих же старался писать мне такие, которые не могли бы его поссорить с Лондонским двором. Это щекотливая процедура все еще продолжается, она похожа на ужимки двух котов, которые с одной стороны выставляют бархатную лапку, а с другой — выпускают когти. Прусский король, потерпевший поражение от русских и потерявший Дрезден, нуждается в мире; Франция, разбитая на суше ганноверцами, а на море англичанами и потерявшая, весьма некстати, свои деньги принуждена прекратить эту разорительную войну.
27 ноября 1759 года.
Из биографического очерка секретаря Вольтера Ваньера