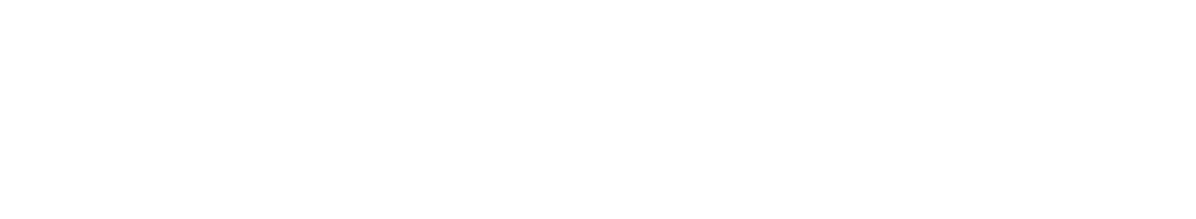Картина, которая обозначена в некоторых каталогах международных аукционов как «картина, написанная маслом на картоне». В правом нижнем углу артефакта отчетливо читается подпись «А. Родченко» и год создания — 1919-й. Полотно выполнено в стиле супрематизма — модного в ту пору течения русского авангарда. На ярко-красном крашеном картоне изображены несколько перекрещенных параллельных линий и шестиугольник. Небольшая картина (габариты 22Х16 см) вставлена в деревянную раму. Сохранность удовлетворительная. Предполагаемый автор этого полотна — Александр Михайлович Родченко вошел в летопись мирового искусства как гениальный художник и фотограф, создавший новое направление в фотографии, дизайне и рекламе своего времени. Однако при всей своей одарённости Родченко был ещё непревзойдённым пропагандистом, воспевавшим сталинский режим и его «завоевания». Впрочем, в этом отношении он был не одинок. Очень многие советские таланты — кто вольно, кто невольно — вынуждены были состоять на службе диктатуры.
* * *
Александр Пушкин, как известно, утверждал, будто гений и злодейство несовместимы. Но если в одном человеке возможность такого сочетания и впрямь можно подвергнуть сомнению, то как быть, если злодей сидит на троне, а гений живёт и жаждет творить — пусть и на подконтрольной злодею территории?
Впрочем, в послереволюционном 1919 году, которым датируется наш артефакт, едва ли кто из молодых художников-супрематистов, к которым относил себя и Родченко, задавался этим вопросом. Старый мир рушился — к ужасу одних и радости других. Для представителей «нового искусства» это было, скорее, временем надежд. Суровость бытия — а именно в 1919-ом большевики развернули массовый «красный террор», крестьяне восстали против объявленной продразверстки, Деникин занял Крым, Юденич хозяйничал в Пскове, Колчак вышел к Волге, а Антанта объявила поход против Советской Республики — лишь подчёркивала огромный масштаб происходящих в стране перемен. Да что там — многие всерьез ожидали, что «пламя революции» вот-вот перенесётся из Советской России на другие страны (подробнее о том, как СССР пытался «разжечь пожар мировой революции» — в истории «От борца до жертвы»), а потому революция виделась везде и повсюду. В том числе и в искусстве. И хотя Александру Родченко в том году исполнилось уже 28 лет, именно ему предстояло стать одним из главных «революционеров» советской живописи и фотографии.
Александр Родченко родился в 1891 году в Санкт-Петербурге в семье театрального бутафора и прачки. Вскоре семья переехала в Казань, где Александр по настоянию родителей учился на зубного протезиста, но параллельно постигал азы живописи — состоял вольнослушателем в Казанской художественной школе. Здесь он познакомился с будущей «амазонкой русского авангарда», художником-дизайнером Варварой Степановой. Варвара Федоровна вскоре станет его женой – их плодотворный творческий тандем продлится почти 40 лет. Начинающий амбициозный художник сразу же решил искать применения своим талантам в Москве. В 1914 году он пробовал поступить в Строгановское художественно-промышленное училище, но безуспешно. Впрочем, неудача не отбила у Александра желание стать художником — он стал учиться живописи самостоятельно, по книгам. Настырный самоучка Родченко уже в 1916 году дебютировал в столице как живописец и график — на выставке русского авангарда «Магазин», организованной художником Владимиром Татлиным, Александр выставил несколько своих кубофутуристических работ, серию театральных костюмов и графических композиций.
Окунувшись в бурный водоворот художественной жизни столицы, Родченко увлекся буквально всеми современными направлениями в живописи — на первые два десятилетия XX века как раз приходится расцвет русского авангарда во всех его немыслимых проявлениях. Александру кружат голову работы модерниста Обри Бердслея, футуристические полотна Владимира Татлина, супрематизм Казимира Малевича… Все новое в искусстве и жизни пленит и пьянит молодых художников-новаторов, в кругу которых оказался Родченко. С нагрянувшей пролетарской революцией авангардисты отождествляли свои самые смелые художественные фантазии, а потому живо откликнулись на её призыв активным участием в событиях культурной жизни, украшением городов, созданием афиш и плакатов. «Мы прославляем вслух революцию, как единственный двигатель жизни», – объявил Родченко. В апреле 1918 года он обратился к коллегам – художникам пролетариям — с таким призывом:
«Мы – пролетарии кисти! Творцы – Мученики! Угнетенные художники!
Мы, носящие пылающий огонь творчества, ходим голодные и босые!
Мы, не имеющие возможности творить, отдаем лучшие силы и время для заработка на скудное пропитание!
Мы, ютящиеся в конурах, часто не имеющие ни красок, ни света, ни времени для творчества.
Пролетарии кисти, мы должны сплотиться, мы должны организовать “свободную ассоциацию угнетенных художников-живописцев” и требовать хлеба, мастерских и права на существование».
«Революционный пожар» большевиков и «пылающий огонь творчества» пролетариев кисти подпитывали и дополняли друг друга. Так что вовсе не удивительно, что Родченко без малейших колебаний принял революцию. «Мы пошли работать с большевиками», — откровенно писал Александр в своих воспоминаниях. И работы было немало: с 1917 по 1920 годы Родченко занимался оформлением Москвы к пролетарским праздникам, устраивал тематические выставки, участвовал в первых конкурсах молодой республики на эмблемы для профсоюзов. Он же стал организатором профсоюза художников-живописцев, где был избран секретарем «Молодой Федерации», служил в отделе ИЗО Народного комиссариата просвещения, заведовал Музейным бюро, был членом художественной коллегии и общества «Живскульптарх», участвовал в создании Рабиса, преподавал во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе. В общем, при новом режиме Родченко жилось весьма неплохо, Александр уже не чувствовал себя «угнетенным художником» – он принял советскую власть, а советская власть с распростертыми объятьями приняла его. И хотя картины Родченко были крайне далеки от того направления, что позже назовут «социалистическим реализмом», в 20-е годы это никого не смущает: новое пролетарское искусство ищет новые формы, и его главная задача на этом этапе — как можно больше дистанцироваться от «буржуазного искусства». Сегодня мы знаем, что пройдёт совсем немного времени, и всё поменяется местами: авангардные работы станут абсолютно буржуазными, а в СССР будет насаждаться соцреализм. Но в 1919 году идёт активный поиск новых форм в искусстве, и Родченко здесь — один из главных.

А.Родченко. Композиция на желтом фоне. Из фондов Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
Именно в этот период и появилась представленная в нашей коллекции «картина маслом на картоне»- по-видимому, другое название полотну дать было попросту трудно. Рассмотрим её повнимательнее. В 1915-1920 годы в творчестве Александра Михайловича преобладали графические произведения, созданные при помощи циркуля, линейки и трафарета – при написании нашего полотна без этих чертежных инструментов явно не обошлось. Вам не удастся распознать в этих образах даже отдаленное сходство с чем-либо. Так называемые «беспредметные» картины Родченко родились под влиянием супрематических идей Казимира Малевича. По определению самого создателя «Черного квадрата», супрематизм — высшая ступень развития искусства на пути предельного выявления беспредметного как сущности любого искусства. И на пути к этой высшей ступени творчества Родченко вслед за Малевичем лишил свои работы всякого изобразительного смысла – так что в комбинациях цветных плоскостей, в сочетании разновеликих геометрических фигур и линий не стоит искать знакомые очертания. Супрематисты считали, что их картины являются первым шагом «чистого творчества», то есть акта, уравнивавшего творческую силу Человека и Природы (Бога). И в этом творческом состязании с самим Создателем, очевидно, не имели значения такие мелочи, как размеры холста и его качество. Те, кто впервые видит самую знаменитую картину Малевича, обычно искренне удивляются скромным габаритам квадрата (79,5Х79,5 см). Представленное произведение Родченко и вовсе можно назвать миниатюрой (22Х16 см). Выполнено оно маслом на простом «пролетарском» картоне, а не на «буржуазном» холсте.
Родченко вообще всегда проявлял повышенный интерес к цвету и структуре окрашенной поверхности, его заботила передача сильных световых ощущений. Вот почему в супрематизме с его «беспредметностью» он задержался недолго. По сути, Александр увлекся дизайнерским подходом к живописи. Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, в противовес картинам Малевича Родченко пишет серию работ «Черное на черном» и «Белое на белом». К тому времени, как метко и едко заметила его супруга Варвара Степанова, «общее настроение было не поддаваться влиянию Малевича». До прощания Родченко с живописью остаётся совсем немного. Александр очень эффектно покончил с ней в 1921 году — последней его знаковой работой стал триптих «Три цвета. Желтый. Красный. Синий».
Это три квадрата, закрашенных соответствующими цветами — ответ всё тому же Малевичу с его черной квадратной бездной, в которой каждый зритель видит и понимает что-то свое. В трех квадратах Родченко этой глубины нет. Это просто цветные фигуры, без всякого смысла – додумывать ничего не надо. В этих квадратах отказ не только от предмета изображения, но и от всякого «духовного содержания». В западных каталогах триптих так и значится: «Последняя картина». Искусство умерло, как бы подытоживает Родченко и ставит жирную точку на своей станковой живописи. Впрочем, как позже выяснится, не навсегда – через 20 лет он снова возьмется за кисти. Ну а пока Александр не просто художник, а художник-инженер или, как он сам себя называл, художник-производственник.

Зал с пространственными конструкциями К. Иогансона, К. Медунецкого, А. Родченко и других конструктивистов
С марта 1921 года начинается этап Родченко-конструктивиста: в противовес беспредметникам именно создание новых предметов превратилось для него в самую важную художественную задачу. Родченко и Степанова были среди родоначальников конструктивизма – авангардного стиля, призванного инженерно смоделировать мир социалистического будущего. На выставке «5Х5=25» Александр экспонировал серию из свободно висящих пространственных конструкций, состоящих из врезанных друг в друга плоскостей различной конфигурации, которые легко поддавались демонтажу. Затем Родченко представил на конкурс три варианта киоска, в оголенном каркасе которого он увидел новаторскую архитектурную форму с новыми художественно-функциональными возможностями. После были проекты здания Дома Советов, общественного здания принципиально нового типа и т.д. «Пора искусству организованно влиться в жизнь. Долой искусство как драгоценный камень среди грязной тёмной жизни бедняка. Работать для жизни, а не для дворцов, храмов и музеев!», — такими были лозунги Родченко-конструктивиста.
И вполне логично, что новой власти очень нравились творческие эксперименты Родченко, который провозгласил целью производственного искусства коммунистическое выражение материальных сооружений. Даже свою книгу о конструктивизме Родченко и Степанова назвали на коммунистический манер «Манифестом». В нем художники призывали отменить «эстетические, философские и религиозные наросты на искусстве» — согласитесь, это были сладкие речи для большевистского уха. «Искусство будущего не будет уютным украшением семейных квартир. Оно будет равно по необходимости 48-этажным небоскребам, грандиозным мостам, беспроволочному телеграфу, аэронавтике, подводным судам и проч.», — писал Родченко. Он прямо заявил о своей приверженности марксистскому материализму, отверг искусство как предмет буржуазного потребления, заменив его так называемой «интеллектуальной продукцией». Другими словами, Александр призвал органично связать искусство с жизнью через производство, направить художественный потенциал на создание бытовых предметов массового производства – на сотворение новой социалистической среды. Такой человек был просто необходим советской власти.
Как ни странно, работы советских конструктивистов с большим интересом восприняли и на Западе. Их творчество отождествлялось с прогрессивной идеологией послереволюционной России, с «искусством материальной культуры технического века»‘. Подобные идеи питали движение на Западе, известное как Интернациональный конструктивизм. Взгляды многих прогрессивных художников в 20-х годах XX века были устремлены именно на Советскую Россию, считавшуюся в ту пору политическим и художественным ориентиром. Многие искусствоведы и сегодня считают, что русская культура лишь однажды внесла выдающийся вклад в мировую сокровищницу человечества – и именно благодаря русскому авангарду 1910-1920-х годов, одной из ключевых фигур которого был автор представленного в нашей коллекции полотна.
Родченко и Степанова в 20-е годы буквально фонтанировали новыми идеями. Именно они стали создателями так называемой прозоодежды – костюмов «индустриально-массовой выработки» для советских граждан. Дизайн этой одежды был призван уничтожить все её декоративные свойства – трудное время требовало функции, а не эстетики. Из более чем сотни эскизов Степановой около 20 пошли в производство, и летом 1924-го конструктивистские ткани с конструктивистскими же узорами носила вся Москва. В ту пору Родченко создал афишу немецкого фильма, который шёл в России под названием «Шесть девушек ищут пристанища». Рисунок был выполнен как текстильный раппорт — две повторяющиеся женские фигуры, одна в шляпке-клош, другая с короткой стрижкой. Их тела прикрыты прозоодеждой из полосатой ткани, видны только ножки в туфельках-лодочках. Женские наряды Родченко представляли собой комплекты, отдельные части которых были легко заменяемыми. Спроектированная Александром Михайловичем мужская прозодежда, в которой, кстати, он часто фотографировался, — была тоже максимально функциональной. Кепка — для защиты от непогоды, карманы — для инструментов, брючины и рукава — широченные… Свобода движения была главным условием модного пролетарского платья.
Родченко искал рациональную форму не только для одежды. Им были созданы образцы типографских шрифтов и иллюстрации для ряда издательств, а также для журналов «Кино-фот», «Огонёк», Смена», «Книга и Революция», «Пионер», «Современная архитектура». Титры Родченко к «Кино-правде» Дзиги Вертова своей броскостью и динамичностью зрительно очень доходчиво «озвучивали» немую кинохронику. Александр Михайлович также занимался дизайном чайных упаковок, конфетных оберток, разрабатывал эскизы для мебели, фарфора, перенося на посуду свои пролетарские геометрические композиции. Без преувеличения можно сказать, что стиль конструктивистского оформления Родченко наложил отпечаток на всю предметно-бытовую среду 1920-х годов.
Отдельного упоминания заслуживает работа Родченко в рекламе. Он создал более 100 плакатов, многие вместе с Владимиром Маяковским, который в этом дуэте «реклам-конструкторов» сам себя называл копирайтером. Реклама для Моссельпрома и Резинотреста, отличавшаяся лаконичным решением композиции и брусковым шрифтом от Родченко и врезавшимися в память слоганами от главного пролетарского поэта Страны Советов, до сих пор входит в базовый учебный курс по дизайну. Особенностью рекламного дизайна Родченко было переплетение в композиции графических и понятийно-знаковых элементов — например, в виде стрелок-указателей, подчеркивающих образность двустиший Маяковского.
Популярность этой новой советской рекламы была огромной, она сразу же забила господствующую ранее «художественную» нэповщину. «Мы полностью завоевали Москву и полностью сдвинули или, вернее, переменили старый царски-буржуазно-западный стиль рекламы на новый, советский», — вспоминал об этой работе Родченко. Высокая общественная значимость этой деятельности была признана и властями. “Маяковским, совместно с Родченко, по заказу Моссельпрома выполняются новые конфетные обертки, рисунки и агитстроки. Намечены серии” “Вожди революции”, “Индустрия”, “Красная Москва”. Агитационное значение этого начинания заключается не только в двустишиях, но и в вытеснении прежних “конфетных” названий и рисунков такими, в которых четко обозначается революционно-индустриальная тенденция Советской республики. Ибо вкус массы формируется не только, скажем, Пушкиным, но и каждым рисунком обоев…”, — писала 30 марта 1924 года «Правда».
Именно в качестве художника-оформителя в 1925 году Александр Михайлович в первый и последний раз в жизни отправился за границу — работать в советском павильоне на Парижской выставке декоративного искусства и художественной промышленности. Уже тогда с Родченко желали познакомиться Пикассо, Ван Дусбург, Леже, с огромным интересом наблюдавшие за развитием советского искусства. Считается, что эта встреча не состоялась из-за языкового барьера. Кстати, буржуазная Европа Родченко не впечатлила, даже разочаровала. 35-летний советский конструктивист не мог понять, как можно делать вещи технически столь совершенные и настолько же пустые идеологически. Вещь должна быть равноправным товарищем человеку, уверен Родченко, и в этом паритете заключается свет, который несет всему миру крепнущая советская цивилизация. Вещи-друзья, которыми он оснащает интерьер советского павильона, делают Александра Михайловича известным на весь мир. Но ему скучно в Париже, его раздражает даже изысканная западная одежда. Из идейных побуждений он мажет пол в павильоне сажей, чтобы посетители разносили по всей выставке копоть советской индустриализации. Впрочем, это не помешало Родченко получить в Париже Серебряную медаль в разделе “Искусство улицы”.
На всех этапах творчество Родченко было неразрывно связано с передовыми научно-техническими идеями. Так что рано или поздно Александр Михайлович с его тягой ко всему новому просто не мог не обратиться к фотографии — детищу науки и техники (о том, как фотография стала доступной для широких масс, читайте в истории «Праздник длиною в век»). Снимать Родченко начал в 1924-ом. Первую камеру он купил для работы над рекламным фотомонтажом, а деньги на увеличитель одолжил у Маяковского. Кстати, именно в тот период Родченко сделал несколько фотопортретов поэта, ставших впоследствии самыми известными снимками Маяковского. Вопреки всем советским канонам, Владимир Владимирович на фото выглядит заправским щеголем, фактурным красавцем, эдаким вальяжным американским денди в дорогих костюмах, а не в серийной прозоодежде.
Не менее знаменит снимок Родченко «Портрет матери», а также фотопортреты Сергея Третьякова, Эсфири Шуб, Александра Шевченко, Осипа Брика и других коллег по творческому цеху. Трудно сегодня найти человека, который не видел бы хрестоматийных снимков «Девушка с «лейкой» и «Радиослушатель», а фотографию Лили Брик, сделанную для рекламы Ленгиза, дизайнеры используют по сей день, приспосабливая под рекламу чего попало. Александр Михайлович снял Лилю Брик еще в 1924 году. Почти век прошел, а выглядит зазывающая красавица в косынке по-прежнему очень свежо и актуально. Причём настолько, что образ её в наше время используют даже за границей:
Александр Михайлович превратил фотографию в способ культурной коммуникации, постепенно раскрывал ее творческие возможности, ее социальность, документальность, техническое совершенство, современность. Фотография, по мнению Родченко, должна была стать тем единственно правдивым искусством, которое максимально точно отображает жизнь в ее динамике, в движении. И строящийся, постоянно меняющийся Советский Союз был отличным полигоном для этой деятельности. Александр Михайлович снимал своих современников, Москву, спорт, новостройки, первую советскую технику. Своим первым неудобным аппаратом 9х12, а затем “Лейкой”, он “щёлкал” рабочих, нэпманов, демонстрантов, толкучку у трамваев, контрасты старой и новой жизни Москвы. А ещё — много и талантливо снимал детей, карапузов и пионеров, чувствуя в них «жителей новой эры».
Он агитировал фотографией за новый мир и быт, новую визуальную культуру. И новое, так полюбившееся ему искусство требовало новаторского подхода. Экспериментатора Родченко никак не удовлетворяла стандартная горизонтальная композиция и прямолинейный ракурс, считавшиеся “нерушимой традицией” для подавляющего большинства фотографов того времени. Не удивительно, что в профессиональной среде вскоре появились и совершенно новые термины — «перспектива Родченко» и «ложная перспектива Родченко». А вскоре мир узнал и о том, что такое уникальная «родченковская композиция».
Кадр в резком ракурсе снизу или сверху — за эту композицию его многие критиковали, но, вместе с тем, не стеснялись подражать. Стиль Родченко сделал его снимки безошибочно узнаваемыми. Зритель вынужден то высоко закидывать голову, глядя на вершины сосен, то бросать взгляд с балкона вниз. Снимая архитектурные объекты, он придавал им едва ли не физически ощутимую динамику, превращая в конструктивизм то, что им вовсе не было. «Говорят, надоели снимки Родченко — все “сверху вниз” да “снизу вверх”. А вот “из середины в середину” — так лет сто снимают; нужно же не только чтоб я, но и большинство снимало “снизу вверх” и “сверху вниз”. А я буду “сбоку набок”», — отвечал своим завистникам мастер. Под влиянием его идей в советской фотографии возникло целое направление “рабочих фотокоров”. Из этой школы вышли лучшие советские фотографы 30-х годов – Аркадий Шайхет, Борис Игнатович, Марк Альперт.
Впрочем, были претензии к фотографиям Родченко, на которые нельзя было не реагировать – идеологического толка. Так, например, некоторые критики пеняли на неполиткорректность его знаменитого, снятого с нижней точки «Пионера-трубача», который якобы похож на «откормленного буржуа». «Разве в этом грубом зверином узле мускулов и топорном образе лица можно узнать живое, радостное, открытое лицо младшего поколения коммунистов?», — писали газеты, обвинявшие Родченко в формализме и нежелании перестраиваться в соответствии с задачами пролетарской фотографии. Впрочем, пройдёт совсем немного времени, и упитанный щекастый пионер станет общепризнанным эталоном соцреализма, призванным стать олицетворением счастливого советского детства (см.заметку «О пионерах и бисквитах»).
Но были и претензии иного рода — причём далеко не всегда от них можно было отмахнуться. Вот, к примеру, какой отзыв получил его снимок «Пионерка»: «Почему пионерка смотрит вверх?! Пионерка не смеет смотреть вверх, это не идейно. Вперед должны смотреть пионерки и комсомолки». Александр Михайлович запомнил этот урок, отныне большинство его фотообразов будут «впередсмотрящими». Возможно, именно в этот период Родченко впервые сталкивается с идеологическим давлением на своё искусство. По крайней мере, этот вопрос занимает его мысли: «Ничто так не карается в искусстве, как соглашательство», – пишет он в это время.
Но соглашательство постепенно всё больше входит в его жизнь. В том числе и в личную. В 1934 году Родченко делает один из самых известных своих снимков — «Девушка с Лейкой», на которой изображена его поклонница и ученица Евгения Лемберг. Появление Лемберг поколебало многолетний семейный и творческий союз Родченко с Варварой Степановой. Роман был бурным, и многие считали, что Родченко конечно же не станет «любить на два фронта». Но ничего не произошло, Родченко остался в семье. А летом 1934 года Женя Лемберг погибнет в железнодорожной катастрофе. С ней вместе должен был ехать и Родченко, но отложил поездку на день. Два года спустя Родченко напишет в своем дневнике: «Любовь Варвары ко мне необычайно глубока… А к Варваре как к женщине после Жени, все же, чувства не приходят обратно…». Пройдет еще три года и по-прежнему: «Сегодня снилась совершенно реально Женя, будто она приехала… Я был такой счастливый…». В 1992 году фотография «Девушка с лейкой», которую Родченко сделал за несколько месяцев до трагической гибели Лемберг, будет продана на аукционе Cristies за 115 тысяч фунтов стерлингов.
Тем временем, сам Родченко не просто успешно интегрируется в новое советское общество, но и стремительно поднимается по социальной лестнице. В прошлом авангардист и художник-инженер, теперь он известный дизайнер и ведущий фотокорреспондент многих советских газет и журналов; его работы появляются на международных выставках. В 30-е годы Родченко с супругой трудились над оформлением фотокниг и фотоальбомов «Первая Конная», «Красная Армия», «10 лет Узбекистана», «Москва» и многих других. В этих изданиях был минимум текста, вся нагрузка смыслового восприятия полностью ложилась на документальный фотоматериал. Родченко становился как бы режиссером визуальных книг, скрупулезно разрабатывая каждый разворот, подбирая снимки и образы, как слова в тексте. Его верный объектив все чаще был направлен на торжественные шествия, помпезные презентации достижений советского хозяйства, массовые спортивные праздники, военные парады на Красной площади. Уловил ли талантливый творец момент, с которого он стал превращаться в «певца» сталинской эпохи или так был увлечен эволюцией своего мастерства, что не заметил перемен? Как бы то ни было, даже в этом стройном хоре Родченко удавалось солировать. Причем делал он это самозабвенно, наслаждаясь и процессом, и результатом.
В 1933 году в судьбе Родченко наступил «момент истины», после которого художник уже не мог делать вид, что не замечает происходящего в стране. Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ — ставшее позже НКВД) направило Родченко оттачивать навыки «впередсмотрения» не куда-нибудь, а на Беломоро-Балтийский канал — одну из первых «великих» строек коммунизма. В задачи Александра Михайловича входила организация на месте экспериментальной фотолаборатории, а также создание серии репортажей о завершении строительства и торжественном открытии канала. Мог ли художник не понимать, что происходило на «стройке века», чьими силами и какой ценой прокладывался канал, сколько жизней унёс? Мог ли Родченко не видеть, что люди, счастливые лица которых подмечал на улицах советских городов его объектив, здесь погибают от каторжного труда, голода, холода. Что их хоронят в общих могилах в соседних лесах. Наверное, не мог. Но он остался на стройке и с энтузиазмом приступил к выполнению возложенной на него почетной миссии — весь незаурядный талант художника-конструктивиста пошёл на «фотомонтаж действительности».
Родченко летал на Беломорканал трижды. Предполагается, что его здешний фотоархив насчитывает около 4000 негативов, однако большая их часть до сих пор не найдена. В настоящее время известны около 40 работ, сделанных Александром Михайловичем на Беломорканале. Попадаются среди них и удивительной красоты пейзажи северной природы, но в основном это будни и праздники «великой» стройки – залакированное и напудренное их изображение. И, как можно понять из писем Родченко жене, эта работа доставляет ему удовольствие. В этих посланиях он вдохновенно описывает происходящие в БелБалтлаге события как великое достижение советской власти: «За 20 месяцев подготовлено около 20 тысяч квалифицированных работников по 40 специальностям. Это все бывшие воры, кулаки, вредители и убийцы. Они впервые познали поэзию труда, романтику строительства. Они работали под музыку собственных оркестров». Неизвестно, насколько искренен был Родченко в этих оценках своей «командировки» — ведь для него самого было очевидно, что вся почтовая переписка тщательно проверяется «органами». Скорее всего, увиденное на строительстве канала заставило Родченко всеми силами стараться избежать самому оказаться по ту сторону колючей проволоки, что нередко происходило даже с обслуживающим персоналом «великой стройки» (об одном таком случае читайте в заметке «В тюрьме есть тоже лазарет»).
Кстати, снимок «Духовой оркестр Беломорско-Балтийского канала», оригинал которого хранится в Архиве управления ББК НКВД Медвежьегорска, обошел весь мир и считается одним из наиболее знаковых и символичных в этой серии: Родченко запечатлел с верхней точки, как духовой оркестр каналоармейцев «строить и жить помогает» менее музыкально одарённым заключённым.
А теперь предлагаем сравнить взгляд на «великую» стройку Родченко с восприятием его же кадров Наталии Солженицыной. Вот как как вспоминала супруга писателя об одной из фотографий Родченко: «Я вздрогнула, когда увидела фото! Эта полураздетая толпа в снежной мгле, лаги или ломы, которые они несут — как пики какого-нибудь Смутного времени. Плотная спина чекиста на берегу над ними. Он один — но толпа людей покорна. В метели они втягиваются в русло, как в Дантов круг. Вручную прогрызают канал, который практически не будет использоваться. Как и многие «великие стройки».
И, разумеется, никакой «романтики и поэзии труда», которой так восхищался (по крайней мере, на публике) автор снимков. Видел ли сам Родченко эту романтику? Похоже, что Александр Михайлович поначалу действительно верил в то, что снимал и писал. Спустя три года фотограф, надеясь остановить травлю в свой адрес со стороны журнала «Советское фото», напишет статью «Перестройка художника», где будет вспоминать Беломорканал как важнейший этап своей биографии. «Гигантская воля собрала отбросы прошлого на канал. И эта воля сумела поднять у людей энтузиазм», — запишет художник. Родченко имеет в виду не только армию строителей, но и себя: мол, великая стройка даже его перевоспитала. «Я хочу решительно отказаться в дальнейшем от того, чтобы ставить формальное решение темы на первое место, а идейное на второе, и наряду с этим пытливо искать новые богатства фотографического языка, чтобы с его помощью создавать вещи, стоящие на высоком политическом и художественном уровне, вещи, в которых фотографический язык служил бы полностью социалистическому реализму», — клянётся Родченко в верности соцреализму. Ему трудно не верить, он абсолютно искренен.
На основе каналоармейского фотоархива Родченко был подготовлен специальный номер журнала «СССР на стройке» (номер за декабрь 1933 года), который выходил на трех иностранных языках и распространялся, в том числе, среди советской элиты. В журнале опубликованы фотографии Александра Михайловича, выполненные с использованием «скрытого монтажа», единственная цель которого — представить рабский труд как удовольствие. Причем сделано это было очень искусно, даже талантливо. Если вообще можно назвать искусством ложь и пропаганду, покрывающие преступления против человечности, ровняющие с землей могильные ямы, в которых по 100–200 человек, расстрелянных в затылок.
Значительная часть фотоархива Родченко вошла в книгу «Канал имени Сталина». Этот 600-страничный том под редакцией Максима Горького составила группа советских писателей, для которых вскоре после открытия канала в августе 1933 года был организован специальный экскурсионный тур. Издание является библиографической редкостью: практически весь его тираж был уничтожен в 1937-м, так как близкие к Генриху Ягоде (один из главных «героев» книги) руководители канала в одночасье были заклеймлены «врагами народа», да и писатели уцелели не все. Эта книга не издавалась без малого 70 лет. В коллекции «Маленьких историй» хранится один из уцелевших экземпляров этого раритетного издания. Можно по-разному относиться к тому времени, к тому социальному строю, к этой книге и ее авторам, но отрицать ее ценность было бы ошибкой – ведь это свидетельство целой эпохи. Трагической эпохи. И пусть этот документ очень субъективный, других у нас все равно почти не осталось. Мы обязательно полистаем его, но прежде обратимся к тому самому круизу, который был организован для советской творческой элиты к месту прокладки первого в СССР судоходного канала.
Перед самым открытием на Беломорканал на пароходе «Карл Маркс» прибыла группа из 120 писателей и художников. В ее состав вошли обласканные властью Максим Горький и Алексей Толстой. Участниками делегации также стали Михаил Зощенко, Всеволод Иванов, Виктор Шкловский, Илья Ильф и Евгений Петров, Бруно Ясенский, Валентин Катаев, Вера Инбер, Сергей Буданцев, Дмитрий Мирский и многие другие. Запечатлеть это эпохальное событие было поручено Родченко. Кроме того, ему было позволено снимать писателей вместе с охраной ОГПУ и её начальником Нафталием Френкелем, что до сих пор не дозволялось ни одному фотокорреспонденту. К ответственному заданию Родченко готовился с особым энтузиазмом — об этом опять же свидетельствует его письмо супруге: «Я сниму их приезд и проезд на пароходе, сейчас же проявлю и напечатаю. Ты снимки моментально реализуешь в газеты… Это будет здорово, правда?».
А поездка у писателей получилась превесёлая. Вот как описывал это путешествие молодой 25-летний прозаик Александр Авдеенко: «Едим и пьем по потребностям, ни за что не платим. Копченые колбасы. Сыры. Икра. Фрукты. Шоколад. Вина. Коньяк. И это в голодный год! Ем, пью и с горечью вспоминаю поезд Магнитогорск — Москва… Всюду вдоль полотна стояли оборванные, босоногие истощенные дети, старики. Кожа да кости, живые мощи. И все тянут руки к проходящим мимо вагонам. И у всех на губах одно, легко угадываемое слово: хлеб, хлеб, хлеб… Писатели бродят по вагонам. Хлопают пробки, звенят стаканы. Не умолкает смех и шумные разговоры… Завидую каждому взрыву смеха…».
Добравшись до места, писатели тоже не грустили — вечеринки, костры под гитару, выпуск юмористической стенгазеты со стихами и карикатурами. В общем, атмосфера творческая и веселая – прямо как пионерском лагере. А уже августе того же 1933-го, сразу после открытия Беломорканала, писатели-участники поездки получили правительственный заказ на книгу о «великой» стройке. Так Сталин заставил советскую творческую элиту не просто присягнуть на верность делу партии, но и воспеть то, что вселяло ужас во всех советских граждан — систему ГУЛАГ. Поставленную перед писательской братией задачу предельно чётко сформулировал Максим Горький: «Никакой мистики, никаких чудес, педагогика ОГПУ как убедительное объяснение заключённым всего существа процессов, происходящих в стране… Мы называем себя первым литературным колхозом в СССР». Литературный колхоз, в который кроме самого Горького вошли Михаил Зощенко, Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Вера Инбер, Валентин Катаев, Лев Никулин, Виктор Шкловский, Бруно Ясенский, Анна Берзинь, Григорий Гаузнер, Лев Славин, Дмитрий Мирский (всего 36 «инженеров человеческих душ») выполнил задачу в рекордные сроки – за полгода. 20 января 1934 года издание было отпечатано в типографии.
Книга вышла под редакцией М. Горького, Л. Авербаха и С. Фирина. Вот как отозвался «буревестник революции» об итогах этой творческой деятельности и значении самой стройки: «Работа над книгой о Беломорстрое показала, насколько действительно далеко пошёл процесс приближения к партии всей основной массы беспартийных советских писателей. Мы написали книгу о канале, созданном по инициативе товарища Сталина и носящем его имя. Это налагало на нас гражданскую ответственность и радостно волновало каждого участника нашего коллектива. Книга рассказывает о победе небольшой группы людей, дисциплинированных идеей коммунизма, над десятками тысяч социально вредных единиц. Эта книга рассказывает, как лечили больных; как врагов пролетариата перевоспитали в сотрудников и соратников его».
Книга была издана в двух форматах, отпечатанных в Москве и Ленинграде. Большое подарочное издание ин-кватро (примерно 30 см в высоту), по всей видимости, было предназначено для торжественного вручения по официальным поводам. Оно вышло небольшим тиражом 10000 экземпляров, без указания цены. На другом — ин-октаво (примерно 20 см по высоте) — стояла цена 9 рублей 50 копеек. Тираж этой версии составил 30000 экземпляров – тоже, кстати, совсем немного по советским меркам. В нашей коллекции представлен именно этот вариант. Примечательно, что книга вышла еще и на английском языке — перевод был сделан в Москве американской социалисткой Амабель Вильямс-Эллис и использован для американского и британского изданий.
Авторы книги основательно подошли к её созданию, употребили весь свой творческий потенциал. Главную сюжетную канву, отражающую важнейшие вехи «великой стройки», разбавили разного рода отступлениями, вставили юмористические эпизоды и оригинальные истории из жизни каналаормейцев и сотрудников ОГПУ, разнообразили повествование приёмами, свойственными художественной литературе. Задание у «литературного колхоза» было весьма непростое. Во-первых, книга должна была исключить даже малейшую возможность различного толкования описываемых событий. Во-вторых, должно было получиться единое повествование, художественный монолит, далекий от сборника произведений разных авторов. В-третьих, при всей своей видимой художественности этот истинно пропагандистский продукт должен был создавать у читателя впечатление документальности и достоверности. Для создания этой иллюзии повествование перемежалось официальными записками и свидетельствами очевидцев.
Вот как отзывались о своём литературном детище сами авторы. Писатель Леонид Леонов: «Может быть, самое ценное в системе Беломорстроя, а следовательно, ОГПУ — высокое искусство умно и строго щадить людей, предназначенных всем нашим гнусным прошлым для страшной и вот избегнутой роли человеческого утиля…». Ему вторил Михаил Козаков: «ОГПУ — это школа социального педагогизма. Благодаря ОГПУ каждый на своем месте может строить свободолюбивейшее социалистическое общество…». Вот еще одна цитата: «Я ошалел от увиденного достатка ударников-каналстроевцев. На больших блюдах под прозрачной толщиной заливного лежали осетровые рыбины. На узких тарелках купались в жире кусочки теши, семги, балыка. Большое количество тарелок были завалены кольцами колбасы, ветчины, сыра. Пламенела свежая редиска…». И уж совсем запредельным цинизмом отдают слова Льва Никулина: «Высшая человечность и гуманность сделана чекистами—первыми строителями канала, и заключается она в прекрасной работе над исправлением человека». Видимо, благодаря этой «гуманности» за полтора года работ погибло почти 100 тысяч человек, то есть каждый второй заключенный.
Безусловно, трудно обвинять собравшихся на теплоходе «мастеров пера» в сотрудничестве с властью. Для большинства из них не было иного выхода. Однако заметим попутно, что даже в эти годы многие представители интеллигенции находили в себе силы и мужество хотя бы для иносказательного изображения истинного положения дел в стране. Примером здесь может служить внешне вполне лояльный к советской власти художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, зашифровавший, как считают многие искусствоведы, весь ужас 30-х годов в своей знаменитой картине «Тревога. 1919 год».
Написанная в 1934 году, картина считывалась современниками практически однозначно: семья служащего с ужасом ждёт ареста. Отец семейства с тревогой выглядывает в ночное окно — возможно, ждёт приезда «воронка». Небольшая подсказка содержится и на первой полосе скомканной газеты, в названии которой угадывается «Красная газета» (издание выходило с 1918 по 1939 год). Сразу под «шапкой» с названием газеты мы видим заголовок, начинающийся со слова «Враг..» Последние три буквы заголовка наталкивают на варианты — либо враг народа, либо враг труда. Но в любом случае это — скорее из лексики 30-х, нежели из времен гражданской войны. Понимая, что столь многозначительную работу наверняка будут рассматривать под микроскопом, Петров-Водкин подстраховался: начертание заголовка «Красная газета» более напоминает то, под каким она выходила до 1926 года.
Тот же Петров-Водкин известен и другой своей «говорящей» картиной — «Новоселье». На ней мы видим большую семью, въехавшую, по легенде самого Петрова-Водкина, в освободившуюся от буржуев квартиру на Дворцовой набережной в Петрограде. На картине мы видим довольно сложную композицию, состоящую из улыбающегося нового хозяина, похожего на Ленина и Сталина одновременно (благо что с трубкой в руке), сидящего в окружении своих товарищей за столом слева. Остальное пространство заполнено самыми разными людьми, среди которых угадываются молодые работницы, крестьяне и военные. Дореволюционные портреты на стене с некоторым ужасом взирают на эту публику.
Сам художник в своих последующих интервью не смог вразумительно объяснить, в чем состояла идея картины. Сетовал на то, что вдался в детали, увёл зрителя от сюжетной линии. Наверное, в 1937 году, когда писалась эта картина, иначе ответить было попросту невозможно. Тем временем, идейный замысел автора становится абсолютно понятным, если вспомнить, что и в 30-е годы зачастую «новоселье» проводилось в квартиры арестованных «врагов народа» (как не вспомнить тут булгаковское «квартирный вопрос их испортил»). О прошлых хозяевах в картине говорит многое — и иконка в углу справа, и изящная живопись на стенах, вступающая в противоречие с крестьянами и работницами, переехавшими в новый дом. А ещё и ковёр под столом — небрежно брошенный рядом с половиком, явно принесённым сюда новыми жильцами. Так что Петров-Водкин не лукавил, говоря о том, что перенасытил картину новыми персонажами. Он не сказал лишь одного — что благодаря этому главным персонажем картины стали прежние хозяева. Их нет — но их присутствие (или отсутствие) явно ощущается. Деталь, не бросающаяся на первый взгляд: в центре картины, прямо за спинами девушки и раненного бойца-красноармейца, расположено зеркало. В нём отражаются головы девушки и бойца, а ещё труба от печки-буржуйки. А ещё — заставленный посудой стол (или комод)с картиной на стене. Но этого стола нет в комнате — обратите внимание, он отражается только в зеркале. И за столом этим никто не сидит. Возможно, это отражение прежней жизни, и хозяев, которых уже нет.
Неудивительно, что эта картина Петрова-Водкина всегда привлекала внимание искусствоведов и историков. Наиболее дотошные из них даже «вычислили» адрес здания, из которого открывается такой вид на Петропавловскую крепость — это бывший доходный дом Н.П.Жеребцовой (перестроенный особняк А.П.Гагариной) на улице Миллионная, 11. Сегодня в этом доме расположен отель «Эрмитаж» и элитные апартаменты с посуточной арендой.

Дом на Миллионной, 11 в Санкт-Петербурге в наши дни
Возвращаясь к участникам сталинского «пресс-тура» по Беломорканалу, отметим, что и среди них нашёлся человек, наотрез отказавшийся участвовать в написании книги о воспитательной роли ГУЛАГа. Это был писатель Вячеслав Шишков. И вот что удивительно: этот демарш сошёл ему с рук. Власти не тронули Шишкова. А вот с другими — более лояльными писателями с того самого теплохода обошлись куда как сурово. Не будем касаться странной смерти Максима Горького, о которой написано немало книг, но в двух словах расскажем о том, как закончили свой земной путь другие летописцы Беломорканала:
Бруно Ясенский — летом 1937 года снят со всех должностей, исключен из Союза писателей «за контрреволюционную деятельность», расстрелян 17 сентября 1938 года.
Анна Берзинь — жена Бруно Ясенского, арестована в 1938 году, в ГУЛАГе и на поселении провела более 17 лет.
Дмитрий Мирский — арестован в 1937 году, приговорен по «подозрению в шпионаже» к 8 годам исправительно-трудовых работ, в июне 1939 года умер в лагере под Магаданом.
Сергей Буданцев — 26 апреля 1938 года арестован и приговорён к 8 годам лагерей по обвинению в «контрреволюционной пропаганде». Летом 1939 года этапирован на Колыму, где работал забойщиком на золотом прииске. Умер в лагерном пункте «Инвалидный» в 1940 году.
Семен Гехт — в мае 1944 арестован, осуждён на 8 лет за «антисоветскую агитацию». Отбыв срок, в 1952 году поселился в Калуге.
Оформлением книги, включая основную часть фотографий, занимался, как мы уже отмечали, Александр Родченко. Достоверно неизвестно, было ли его решение работать на Беломорканале добровольным или же ему было сделано предложение, «от которого невозможно отказаться». Не исключено, что этот творческий заказ стал закономерным продолжением давних взаимоотношений с органами. Как бы то ни было, Родченко сотрудничал с ОГПУ – иначе он просто не имел бы тех привилегий, которыми пользовался, находясь на стройке. Александр Михайлович мог свободно передвигаться по территории зоны, ему было предоставлено эксклюзивное право снимать не только рядовых каналоармейцев, но также их надзирателей. Из тех же писем жене известно, что Родченко создали все условия для работы и вполне комфортного проживания: «Не писал по причине незнания, где, что, и отсутствия пропуска. Теперь всё в порядке. Здоров и выгляжу хорошо. Ем, пью, сплю, и пока не работаю, но завтра начну. Все замечательно интересно. Пока прямо отдыхаю. Условия прекрасные… Не говори никому лишнего, что я на Беломорканале…»
Некоторые исследователи биографии Александра Родченко предполагают, что его связь с ОГПУ уходит корнями в те времена, когда он был частым гостем в доме Лили Брик – а её сотрудничество с «органами» историки с недавнего времени считают доказанным. Этот зигзаг в жизни Родченко не мог не повлиять и на восприятие его творчества. Виртуозные приемы по «фотомонтажу действительности» для многих перечеркнули все предшествующие достижения Александра Михайловича в живописи и фотографии. Знаменитые «ракурсы Родченко» перестали быть новым словом в искусстве, а превратились в сознании части зрителей в символы пропаганды сталинского режима. Яркий пример тому — интервью писателя, историка, друга Малевича и Татлина, члена художественного сообщества русских авангардистов Николая Харджиева, которое он дал в 1991 году:
«А Родченко – вообще дрянь и ничтожество полное. Нуль. Он появился в 1916 году, когда всё уже состоялось, даже супрематизм. Попова и Удальцова всё-таки появились в 1913-м, Розанова в 1911 году. А он пришёл на всё готовое и ничего не понял. Он ненавидел всех и всем завидовал. Дрянь был человек невероятная. Малевич и Татлин относились к нему с иронией и презрительно – он для них был комической фигурой. Лисицкий о нём ничего не высказывал, но тоже относился к нему презрительно, а Родченко ему страшно завидовал и ненавидел. Родченко сделал Маяковскому кучу чертежных обложек, а Лисицкий сделал одну (вторая плохая) для «Голоса» – разве у Родченко есть что-то подобное? Когда он начал заниматься фотографией и фотомонтажом, на Западе уже были замечательные мастера – Ман Рей и др. Лисицкий уже следовал за Ман Реем, но не хуже. То художники были, а у этого фотографии – сверху, снизу – просто ерунда. Я считаю, что такого художника не было».
Наш современник, фотожурналист Олег Климов видит в том, что произошло с Родченко трагедию всей отечественной фотожурналистики: «На протяжении всей истории наша «документальная фотография» являлась ничем иным как пропагандой того или иного режима. Не рассказывала о человеке и обществе, а пропагандировала кровавые режимы, диктаторов, подменяя понятия террора на понятие перевоспитания воров, проституток, врагов народа. Началом этого в фотографии был Беломорканал, и впервые сделал это Родченко под руководством ОГПУ. Это миф, что он был гоним Советской властью за «левое искусство». Скорее всего, он стал презираем этой самой властью, в услужении которой находился до конца своих дней. Поэтому это не только личная трагедия Родченко, это стало трагедией большинства отечественных фотографов и фотографии в целом: в несоответствии отражения мира внутреннего и мира внешнего».
Действительно, это была трагедия не только Александра Родченко — для многих других советских творцов работа над подобными монографиями стала таким же труднообъяснимым эпизодом в биографии, по большому счету – позорным пятном. Власть заставила их не просто прогибаться, а любить ее с должной искренностью, которую подпитывал страх. Это у Булгакова поэт Бездомный и Мастер выбирают между тюрьмой, сумасшествием и самоубийством. Но реальность была ещё мрачнее и трагичнее. Не было никаких волшебных превращений, а до торжества справедливости оставались ещё долгие десятилетия. А пока оставался лишь страх, заставлявший писать такие вот книги, которые вслед за Солженицыным историки-эмигранты окрестили «гнуснейшей книгой в истории литературы, воспевающей концентрационные лагеря».
Как, например, угораздило попасть в авторы книги «Беломорканал имени Сталина» поляка Бруно Ясенского— автора «Заговора равнодушных»? Это ему принадлежат знаменитые на весь мир слова: «Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство». Ясенский написал эти строки в 1937 году, спустя три года после выхода в свет книги о Беломорканале. Не это ли самое ёмкое описания того, что происходило с советскими людьми при сталинском режиме? Не говорит ли он здесь о себе и своих коллегах, вынужденных воспевать любое беззаконие власти – даже созданную ею систему концлагерей и рабского труда?
Я грех свячу тоской.
Мне жалко негодяев —
как Алексей Толстой
И Валентин Катаев.
Их сок ушел в песок,
Чтоб, к веку приспособясь,
За лакомый кусок
Отдать талант и совесть.
Я слезы лью о двух,
Но всем им нет предела,
Чей разложился дух
Скорей, чем плоть истлела.
И умерло Лицо,
Себя не узнавая,
Под трупною ленцой
Льстеца и краснобая.
Это строки из стихотворения «Сожаление» поэта Бориса Чичибабина, написанные в 1969 году. Лауреат 3-х Сталинских премий Алексей Толстой умер за четверть века до их появления. Выходит, что многие потомки не простили ему угодничества преступной власти. Почему же талантливый писатель, некогда ненавидевший большевиков, сбежавший от них в эмиграцию, написавший там прекрасное «Детство Никиты», вдруг решил посвятить себя воспеванию сталинских завоеваний? В этом феномене попытался разобраться писатель и литературовед Алексей Варламов: «В 1923 году Алексей Толстой возвращается в Россию, но уже в советскую. Психологически он готов к построению новой империи. Вспомните его спор с Буниным. Вспомните, что Бунин писал об Алексее Толстом. Миссия русской эмиграции была в сохранении подлинной России, ее духовного начала. Можно спорить, насколько утопична была эта идея. Но она была. Для Ивана Бунина советская Россия – это оксюморон, сочетание несочетаемого. Красная Россия для Алексея Толстого реальна. Теперь он принимает большевистскую Россию. Да, он всегда жил богато, на широкую ногу. Да, любил подличать, в чем сам же признавался. Алексей Толстой для меня – это не коммунист по сути, а русский государственник».
А вот Валентин Катаев, в отличие от Толстого, более 20 лет жил с осознанием того, сколь неоднозначно к нему относятся некоторые современники. Немногие знают, что судьба автора «Белеет парус одинокий» была трагичной и полной тайн. В своей автобиографии он всегда упоминал, что в Гражданскую войну воевал на стороне Красной Армии, был всегда верен большевикам. Однако на склоне лет Валентин Петрович публично рассказал о своем участии в Белом движении. Интересно, что историки и биографы видят намеки на этот факт и в некоторых ранних произведениях Катаева. Эту же версию подтверждают воспоминания семьи Буниных. Кстати, в отношениях между Катаевым и Буниным тоже не все однозначно. Валентин Петрович любил упоминать, что Бунин был его учителем, много общался с ним до революции в Одессе. Однако сам Иван Алексеевич факт «учительства» не подтверждал и весьма жестко высказывался о своем «ученике» в дневниковых записях «Окаянные дни»: «Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки…»
В 20-е годы Катаев работал в газете «Гудок» и других изданиях, где писал «злободневные» юмористические рассказы. В 1933 году, как мы уже знаем, принимал участие в написании монографии о «великой стройке». Однако в 1938 году неожиданно для многих выступил в защиту опального Осипа Мандельштама, и до ареста поэта помогал ему деньгами, организовал на своей квартире нелегальную встречу с Александром Фадеевым. После войны Катаев много пил. Справившись с недугом, в начале 50-х основал и возглавил журнал «Юность». Постарался собрать на его станицах произведения молодых интересных авторов, чьи взгляды отличались новизной и не укладывались в рамки социалистического реализма. За это часто подвергался жесткой критике. Но далее в биографии Катаева опять наблюдаются совершенно противоречивые эпизоды. В 1966 году он совершил поступок, который совершенно не вязался с образом автора «Канала им. Сталина» – подписал коллективное письмо деятелей культуры Леониду Брежневу против реабилитации Сталина. Однако в 1973 году Катаев столь же активно участвовал в травле Сахарова и Солженицына, подписав опять же коллективное письмо в газету «Правда». Спустя 6 лет новый зигзаг — публикация в журнале «Новый мир» повести «Уже написан Вертер» вызывает грандиозный скандал. Ее называют антисоветской — в ней 83-летний писатель и рассказал о своем участии в Белом движении. И это, заметьте, в 1979 году, в период глубокого брежневского «застоя», когда до подобных публичных признаний было еще очень далеко. Можно только предполагать, какие душевные метания и терзания испытывал этот талантливый человек в течение жизни.
Непростой была судьба еще одного автора монографии о Беломорканале — Дмитрия Святополка-Мирского. Представитель княжеского рода, участник Белого движения, автор англоязычной «Истории русской литературы», которую Владимир Набоков назвал «лучшей историей русской литературы на любом языке, включая русский», прожил более 10 лет в эмиграции. Однако в Европе ему становятся близки марксистские взгляды. Со временем он вступает в компартию Великобритании, навещает Горького на Капри и при содействии последнего в 1932 году перебирается в СССР. Далее события развивались стремительно: через два года он пишет главу к представленной в нашей коллекции книги, еще через три года его арестовывают, а еще через два он погибает в лагере. Вероятнее всего, изначально Мирским руководил искренний порыв вернуться на родину, активно участвовать в её судьбе в непростое время. Этот порыв стоил ему жизни. Известно, что Мирский в беседах с другими участниками поездки на Беломорканал не раз высказывал сомнения в соответствии официального образа «стройки века» действительному положению дел. А сомневаться в верности сталинского курса в СССР было очень опасно.
Мотивами, отличными от других, руководствовался, давая свое согласие на писательскую экскурсию и последующее написание книги, литературовед Виктор Шкловский. Некогда эсер, участник Февральской революции в начале 1922 года вынужден был бежать в Финляндию. Но спустя полтора года вернулся в СССР по личным мотивам. Его старший брат был расстрелян как правый эсер, а сестра умерла в Петрограде. В живых оставался только брат Владимир. Именно из-за него Виктор Шкловский и согласился войти в «литературный колхоз» Горького. Он просто хотел повидаться с братом, отбывающим заключение в том самом БелБалтлаге, и, по возможности, облегчить родственнику участь. Сопровождавший писателя сотрудник ОГПУ поинтересовался, как чувствует себя Шкловский в этом месте, на что получил ответ: «Как живая лиса в меховом магазине». Этот поступок не спас брата: в ноябре 1937 года Владимир Шкловский был расстрелян. Сам же писатель, вынужденный прославлять «стройку века», убившую его близкого человека, дожил до преклонных лет и скончался в 1984 году.
Необычна и трагична судьба поэта Сергея Алымова. Когда на «стройку века» в 1933 году прибыла писательская экскурсия, Алымов отбывал там срок, редактировал газету для заключенных. Во время общения с каналармейцами кто-то из коллег узнал поэта. Как ни старался Сергей Яковлевич в беседе играть роль счастливого перевоспитавшегося заключенного, но все же не выдержал и разрыдался. Писатели обратились к присутствовавшему тут же Семену Фирину с просьбой сократить Алымову срок. Фирин пообещал, что поэт скоро будет в Москве и сдержал слово. Вскоре Сергей Алымов прибыл в столицу, где присоединился к работе над книгой о «великой стройке», воспевая систему ГУЛАГа, жертвой которой ещё недавно был сам. Можно ли его за это осуждать?
О писателе, поэте и театральном критике Григории Гаузнере, также приложившем руку к монографии о Беломорканале, известно не много. Но до наших дней дошли отрывки из его дневника, которые многое объясняют в его поступках, в том числе и участие в написании гимна ГУЛАГу: «Насколько мой путь труднее пути Бабеля. Он умнее меня: приходя к низшим, он остался собой самим. А я, как наивный дурак, из честности сам старался стать низшим. Я изо всех сил старался подавить в себе себя… Я тужился стать свиньей. Как трудно мне теперь становиться на две ноги, попрыгавши на четвереньках». Григорий Гаузнер скоропостижно скончался в возрасте 27 лет спустя всего полгода после выхода «Беломорканала имени Сталина».
Стоит упомянуть и о судьбе Александра Авдеенко, столь же молодого участника писательской экскурсии, как и Гаузнер. Мы уже приводили выше воспоминания Авдеенко о том, как весело проходила творческая поездка на Беломорканал. Юный прозаик, в недавнем прошлом шахтер, искренне ужаснулся от увиденного на «стройке века». Наивный молодой человек простодушно поделился своими впечатлениями с коллегами, эта информация дошла до начальника БелБалтлага Семена Фирина. Ареста Авдеенко избежал, но в состав авторов книги не попал. Александр был вынужден буквально бежать на родную шахту, практически уйти под землю, на долгие годы забыв о писательской карьере. Спустя много лет Авдеенко написал повесть-воспоминание о 30-х годах «Отлучение». Читатели познакомились с ней только в 1989 году.
Вполне закономерным можно считать появление в группе авторов монографии писателя Кузьмы Горбунова. Родился в крестьянской семье, «путевку в жизнь» получил на рабфаке, работал в газетах «Красная жатва», «Пролетарские пути», «Красное Поволжье», позднее в журналах «Красная нива», «Смена», «Молодая гвардия». В 1929 году выпустил роман «Ледолом» о крестьянской жизни, борьбе бедняков с кулаками. Книгу эту высоко оценил Горький, так что писательская карьера Горбунова пошла в гору. Круиз с писателями на Беломор, написанные в соавторстве с коллегами три главы для монографии, участие в подготовке 1-го писательского съезда, новый роман, на этот раз о судьбе рабфаковца, очерки о подвигах советских людей в военное и мирное время. И так до конца жизни без зигзагов и потрясений.
Не стало потрясением, судя по всему, участие в воспевании ГУЛАГа и для писателя Сергея Диковского. Выступив соавтором двух глав монографии, он написал еще несколько рассказов и очерков, посвященных перевоспитанию людей трудом. Позже они были объединены в сборник под общим названием «Преступление и воспитание». Литературный критик Корнелий Зелинский известен, в основном, тремя фактами своей вполне благополучной биографии. Он был одним из сооснователей и главным теоретиком группы конструктивистов, принял участие в создании книги «Канал имени Сталина», участвовал в кампании против Бориса Пастернака. По каким-то соображениям Зелинский после работы над монографией почти на 20 лет отошел от активного участия в литературной деятельности.
Причины, по которым в числе воспевающих ГУЛАГ оказались Михаил Зощенко и Всеволод Иванов, отчасти объяснила Тамара Иванова, супруга писателя, также посетившая БелБалтлаг. Ее откровения датированы 1989 годом: «Показывали для меня лично и тогда явные “потемкинские деревни”. Я не могла удержаться и спрашивала и Всеволода, и Михала Михалыча Зощенко: неужели вы не видите, что выступления перед вами “перековавшихся” уголовников — театральное представление, а коттеджи в палисадниках, с посыпанными чистым песком дорожками, с цветами на клумбах, лишь театральные декорации? Они мне искренне отвечали (оба верили в возможность так называемой “перековки”), что для перевоспитания человека его прежде всего надо поместить в очень хорошую обстановку, совсем не похожую на ту, из которой он попал в преступный мир. — А среди уголовников были, несомненно, талантливейшие актеры. Они такие пламенные речи перед нами произносили, такими настоящими, по системе Станиславского, слезами заливались! И пусть это покажется невероятным, но и Всеволод и Михал Михалыч им верили. А самое главное, хотели верить!».
Но ведь были и те, кто не пожелал участвовать в этом фарсе, кто отказался от участия в фальсификации истории. Известно, например, что приглашение принять участие в экскурсии на Беломорканал получил Михаил Булгаков. Писатель отверг это предложение — как и заказ на пьесу о счастливой жизни на «великой стройке». Зато драматург Николай Погодин согласился. Лауреат Ленинской и двух Сталинских премий отлично вписался в «литературный колхоз». Правда, в написании монографии участия не принимал – в это время он создавал комедию в четырех действиях «Аристократы» о процессе «перековки» людей в БелБалтлаге. В конце 1934 года эта пьеса в постановке Николая Охлопкова в качестве предновогодней веселой премьеры вышла на сцене Реалистического театра в Москве. А в 1935 году «Аристократов» поставил Борис Захава в Театре им. Вахтангова. Годом позже на экраны вышел и фильм «Заключённые», также снятый по пьесе Погодина.
Опосредованное участие в создании книги о строительстве Беломорканала принимал еще один очень известный и приближенный к власти человек – художник Исаак Бродский. Именно его кисти принадлежит портрет Сталина, размещенный на первой же странице нашей монографии. «Маленькие истории» уже подробно писали об этом портрете и его авторе, одном из основоположников соцреализма, Исааке Израилевиче Бродском в истории «Властитель муз»). Этот ученик Ильи Репина был поистине уникальным мастером и человеком. При всей своей невероятной и нескрываемой тяге к роскоши и красивой жизни, салонным посиделкам на европейский манер, связям с опальными живописцами и полнейшей аполитичности, он был непостижимым образом любим советской властью. И произошло это как-то незаметно, само собой.
Это он задал каноны изображения Ленина и Сталина, это ему единственному генсек доверил писать портрет матери, это репродукциями его картин в СССР украшали улицы, кабинеты и квартиры, это Бродский отразил в красках главные вехи становления советский власти – от расстрела бакинских комиссаров до строительства Волховстроя. Что взамен? Солидный паек, прекрасная двухъярусная квартира в центре Ленинграда в бывших апартаментах Вильегорских, где в пушкинское время был знаменитый литературно-музыкальный салон, огромная мастерская, личная дружба с сильными мира сего (например, с Кировым и Горьким), должность руководителя Академии художеств, сотни учеников, выставки и заказы, заказы, заказы… Позиция Бродского чрезвычайно проста: «Делай, что велит начальство, и наслаждайся теми благами, которые оно предлагает взамен». Он стал первым художником, которому был вручен орден Ленина. Получилось вполне логично — одному из авторов Ленинианы орден Ленина. Имя Бродского одно время даже было нарицательным. В ленинградской художественной среде 1920-х так называли художников, живущих по принципу: «Чего изволите?»
Таким образом, можно утверждать, что к середине 30-х годов соглашательство стало повседневным явлением в среде творческой интеллигенции СССР. «С конца 30-х годов яркие личности, некогда объединенные творчеством и дружбой, стали превращаться в унылых литературных чиновников, желчных обитателей переделкинских дач, спивающихся завсегдатаев ресторанов, гонимых одиночек, связанных только случайными воспоминаниями. Что соединяло поэтов, и что разъединяло их? Почему в 20-е годы слово «друг» звучит так же часто, как и в пушкинскую пору, и почему к концу 30-х годов оно вытеснено безликими отношениями товарищей по литературным собраниям?», — задается риторическим вопросом в своей книге «Узел» историк литературы Наталья Громова.

«Спортивная колонна»
Вот и Александр Родченко, поклявшись в верности соцреализму, вынужден был поставить свое искусство на государственные рельсы. Однако строгие соцреалистические каноны вызывали у него уныние, тоску. Некоторые исследователи полагают, что поездка на Беломорканал пошатнула в нем светлую веру в справедливость социализма, а вместе с ней и желание заниматься пропагандистской работой. В его письмах все чаще проявляются депрессивные ноты. Со второй половины 30-х годов Александр Михайлович стремится хоть как-то сохранить внутреннюю свободу, символом которой для него в ту пору стали образы цирка. Тогда же была создана знаменитая спортивная серия фотографий (один из самых известных снимков «Спортивная колонна»). Но и они уже не приносят прежнего удовольствия от работы. Сам Родченко считает свои снимки и картины того периода посредственными. Примечательно, что и современные критики будто не замечают поздних работ Родченко, уличенного в угодничестве власти. Первые два года Великой отечественной войны художник провел в эвакуации в Пермской области, затем вернулся в Москву, состоял внештатным фотокорреспондентом, оформлял «Окна ТАСС». В послевоенные годы продолжал занятия фотографией и живописью. Примкнув к «неофициальному искусству», Родченко пишет серию композиций в духе абстрактного экспрессионизма. К этому времени в СССР до авангарда уже нет никому никакого дела, зато этот стиль очень востребован на Западе. Правда, сам Родченко, равнодушный к капиталистическому искусству, об этом так никогда и не узнал, а его работы и по сей день выставляются и закупаются крупнейшими мировыми музеями.
Однако никакие былые заслуги не уберегли Родченко от кары за повторное «отступление от соцреализма». В 1951 году его исключили из Союза художников — правда, через год после смерти Сталина восстановили обратно. А ещё через 2 года Родченко не стало. Он похоронен на Новом Донском кладбище. Полтора года спустя здесь же захоронили и прах Варвары Степановой.
А вот искусство Родченко пережило его самого. В середине 2000-х в теперь уже новой России вспыхнул всплеск интереса к художнику и его произведениям. Всплеск, совпавший с поворотом государственной идеологии в сторону реставрации СССР. Трудно сказать, в чём причина такого повышенного интереса. То ли стройные ряды родченковских колонн вновь стали выглядеть завораживающе для российского зрителя. То ли современные мастера культуры нашли в Родченко и его современниках обоснование того, на что их самих подталкивает сговорчивая муза…