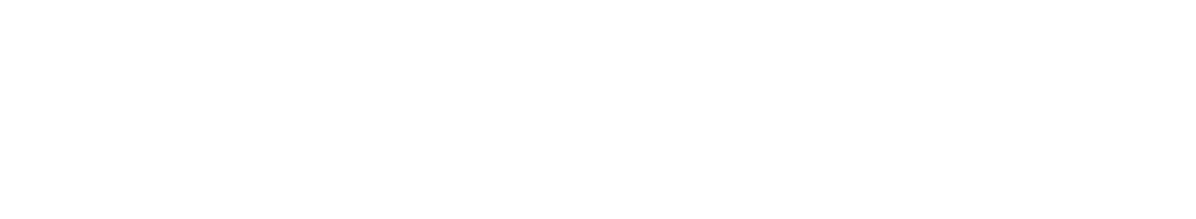По возвращении в Нью-Йорк Орленев сообщил мне, что хотел бы остаться в Америке на несколько сезонов, если удастся увеличить гарантийный фонд. Я передала эту идею людям, заинтересованным в русской труппе. В результате нескольких встреч были собраны шестнадцать тысяч долларов и еще больше было обещано. Кто-то предложил Орленеву перейти под покровительство Чарльза Фромана. Орленев был вне себя: он заявил, что никогда не впрягался в такое ярмо в России, тем более он не станет делать этого в Америке. Только одного управляющего он признавал, и это была «мисс Эмма». Он знал, что я никогда не буду вмешиваться в его работу и диктовать, что и как ему играть, как это делают типичные импресарио.
Разочарование намерением комитета сменить администратора и решение госпожи Назимовой остаться в Америке, чтобы подготовить себя к английской сцене, угнетающе действовало на Орленева. Он так настроился уехать из страны, что не был способен заниматься подготовкой к запланированному показательному представлению.
Пока я помогала ему в работе, Орленев часто уговаривал меня согласиться получать жалование. В его кассе никогда не было денег на дополнительные расходы, но он всегда настаивал, чтобы сперва платили труппе, даже в ущерб ему и Назимовой. То малое, что они зарабатывали, появлялось только благодаря ее изобретательности. Почти из ничего вместе со своей русской горничной Алла Назимова умудрялась делать костюмы не только для себя, но и для всей труппы; таким образом появились все придворные платья царя Федора, богатые и яркие, сшитые ее собственными руками. Но доход был, хоть и небольшой, и Орленев хотел, чтобы я имела в нем долю. Я отказалась, потому что сама зарабатывала себе на жизнь и не хотела становиться дополнительной обузой.
Орленев однажды спросил меня, что бы я больше всего хотела сделать, если бы у меня были деньги, и я ответила, что мечтаю издавать журнал, в котором мои социальные идеи сочетались бы с новыми течениями в различных видах американского искусства. Мы с Максом часто обсуждали это жизненно необходимое начинание. Оно было нашей заветной мечтой, но, видимо, безнадежной. Теперь Орленев снова поднял эту тему, и я посвятила его в свои планы. Он предложил дать специальное представление для реализации этой цели и пообещал поговорить с Назимовой о постановке пьесы «Фрёкен Юлия» Стриндберга, драмы, в которой она всегда хотела сыграть вместе с ним. Орленев сказал, что ему не особо нравилась роль Яна. «Но ты сделала для меня так много, я поставлю пьесу ради тебя», – добавил он.
Вскоре Орленев назначил дату премьеры. Мы арендовали театр «Беркли», напечатали афиши, билеты и с помощью Стеллы и нескольких молодых товарищей начали собирать публику. В то же время мы организовали встречу на 13-й Восточной улице, 210 и пригласили на нее людей, которые могли заинтересоваться нашим журналом: Эдвин Бьёркман, переводчик Стриндберга, Ами Мали Хикс, Садакити Гартманн, Джон Кориелл и других наших товарищей. Когда гости разошлись, у долгожданного дитя было имя — The Open Road («Открытая дорога»), — приемные родители и множество людей, жаждущих о нем заботиться.
Я была окрылена. Наконец годы моей предварительной работы обретали зримую форму! Мимолетное устное слово больше не было моим единственным средством выражения, а сцена — единственным местом, где я чувствовала себя комфортно. Появятся более долговечная печатная мысль и трибуна для самовыражения идеалистов в искусстве и литературе. В The Open Road они смогут высказаться, не боясь цензуры. Все, кто мечтал выйти за пределы жестких рамок, политических и социальных предрассудков, мелочных нравственных требований, должны получить возможность путешествовать с нами по «открытой дороге».
В разгар репетиций «Фрёкен Юлии» на Орленева напал рой кредиторов. Они арестовали его, и театр закрылся, а мне пришлось бросить работу ради поиска поручителей и того, кто заплатил бы за аренду. Когда все было улажено, и Орленева выпустили, он был слишком подавлен этим происшествием, чтобы продолжать репетиции. Оставалось всего две недели до премьеры, и я знала, что Орленев не выйдет на сцену, пока не будет чувствовать себя уверенно в своей роли. Чтобы облегчить его страдания, я предложила поставить другой спектакль, роль в котором он раньше играл. Мы сошлись на «Привидениях» Ибсена, так как роль Освальда была одной из самых лучших работ Орленева.
К сожалению, театральная публика не любит смотреть одну и ту же пьесу много раз; когда было объявлено об изменениях в программе, многие потребовали деньги обратно. Они хотели смотреть «Фрёкен Юлию» и ничего другого. Тем не менее мы все еще могли рассчитывать на хорошие сборы, если бы боги не решили в вечер премьеры обрушить на землю потоки дождя. Ожидаемая тысяча с лишним долларов сократилась до двухсот пятидесяти — жалкий капитал для издания журнала. Разочарование было велико, но мы не позволили ему повлиять на нашу решимость.
У нас было достаточно средств для печати первого номера, который мы запланировали выпустить в исторически революционный месяц март. Разве независимое издание когда-либо стартовало с большим капиталом? Тем временем мы разослали обращение к нашим друзьями. Среди откликов мы получили один из Колорадо с заголовком «The Open Road». Автор обещал засудить нас за нарушение авторского права! Бедный Уолт Уитман перевернулся бы в гробу, узнав, что кто-то посмел присвоить название его великой поэмы. Но что мы могли поделать? Только окрестить наше дитя по-другому. Друзья предлагали разные названия, но не было ничего, что отражало бы нашу идею.
Однажды в воскресенье, во время посещения маленькой фермы, мы с Максом поехали кататься на двуколке. Стоял ранний февраль, но воздух уже полнился запахами весны. Природа освобождалась от оков зимнего сна, несколько островков зелени показались из-под снега, заявляя о жизни, растущей во чреве матери-земли. «Мать-земля, — подумала я. — Чем не и имя для нашего ребенка? Кормилица человека, человека вольного, имеющего неограниченный доступ к свободной земле!» Это название звенело у меня в ушах, как старый забытый напев. На следующий день мы вернулись в Нью-Йорк и подготовили рукопись первого номера нашего журнала. Он вышел 1 марта 1906 года на шестидесяти четырех страницах и назывался Mother Earth («Мать-земля»).
Павел Орленев вскоре отплыл обратно в Россию, оставив огромную часть себя в сердцах тех, кто рукоплескал его таланту. Американский театр и то, что выдавалось за драму в этой стране, теперь казались мне банальными и вульгарными. Но сейчас у меня была новая работа, увлекательная и поглощающая.
Когда Mother Earth была отпечатана и разослана нашим подписчикам, я оставила кабинет на заместительницу, и мы с Максом отправились в турне. Мы собрали большую аудиторию в Торонто, Кливленде и Буффало. В последнем я не бывала с 1901 года. Полицию все еще преследовал призрак Чолгоша; они заправляли всем и требовали говорить только по-английски. Это помешало выступить Максу, но я не преминула выказать свое отношение к полиции. Второй митинг на следующий день был прерван раньше, чем мы успели войти в зал.
Еще в Буффало мы получили новость о смерти Иоганна Моста. Он умер в Цинциннати, находясь в лекционном турне, борясь за свои идеалы до последнего вздоха. Макс преданно любил Моста, для него это было большим ударом. А я… Все ранние чувства к Ханнесу теперь охватили меня, будто не было тех горьких разногласий, что разделили нас. Все, что он дал в те годы, когда вдохновлял и учил меня, предстало передо мной и заставило осознать бессмысленность этой вражды. Долгие мучительные поиски себя, пережитые разочарования и огорчения, сделали меня менее догматичной и требовательной к людям, чем я была ранее. Они помогли понять тяготы одинокой жизни бунтаря, который боролся за непопулярное дело. Горечь по отношению к своему бывшему наставнику сменилась глубокой симпатией задолго до его смерти.
Несколько раз я пыталась дать ему понять, какие изменения произошли во мне, но его непреклонность подтверждала, что в его мнении таких перемен не случилось. Первый раз после долгих лет разлуки я увиделась с Ханнесом в 1903 году, на приеме, который состоялся после окончания его третьего тюремного срока на Блэквелл-Айленде. Его волосы поседели, но лицо было румяным, а голубые глаза сияли прежним огнем. Мы столкнулись у ступенек на сцену, он спускался, а я поднималась, чтобы выступить. Даже не подав виду, что он меня узнал, без единого слова, он чопорно посторонился, чтобы пропустить меня. Позже тем же днем я увидела его в окружении толпы прихлебателей. Мне хотелось подойти и взять его за руку, как в старые времена, но его ледяной взгляд заставил меня отвернуться.
В 1904 году Мост ставил «Ткачей» Гауптмана в театре «Талия». Его прочтение роли Баумерта было прекрасным произведением актерского мастерства и напомнило мне, что он рассказывал о своем страстном стремлении попасть на подмостки. Насколько иначе могла сложиться жизнь Моста, будь он способен удовлетворить это желание! Признание и слава вместо ненависти, преследований и тюрьмы.
И снова прежние чувства к Мосту проснулись в моем сердце, и я отправилась за кулисы сказать ему, как великолепно он сыграл. Он принял мою похвалу так же, как лесть десятков других людей, которые толпились вокруг него. Очевидно, для него она значила не больше.
Последний раз я видела Моста на большом памятном митинге в честь Луизы Мишель. Она умерла, читая лекции в Марселе в феврале 1905 года. Ее смерть собрала все революционные круги Нью-Йорка на демонстрацию в честь этой замечательной женщины. Вместе с Екатериной Брешковской и Александром Йонасом Мост представлял «старую гвардию», которая пришла, чтобы почтить память умершей бунтарки и бойца. Я должна была выступать после Моста. Некоторое время мы стояли на сцене плечом к плечу. Впервые за много лет нас видели вместе на публике, и зрители приветствовали это с большим энтузиазмом. Мост отвернулся от меня, даже не поздоровавшись, и ушел, больше ни разу не взглянув в мою сторону.
И теперь старый воин был мертв! Меня охватила грусть при мысли о страданиях, которые сделали его таким непреклонным и суровым. Вернувшись в Нью-Йорк, мы с Максом узнали, что памятный митинг в честь Моста организован в Гранд Централ Палас. Нас попросили выступить. Мне сообщили, что против моего приглашения высказались некоторые последователи Моста, особенно его жена, которая сочла «святотатством» намерение Эммы Гольдман петь дифирамбы Иоганну Мосту. Я не хотела навязываться, но молодые товарищи из немецких кругов и многие еврейские анархисты настояли на моем выступлении.
В назначенный вечер зал был полон, присутствовали представители всех немецких и еврейских рабочих организаций. Много людей было и с нашей стороны, от каждой иностранной анархистской группы. Это было впечатляющее мероприятие, которое стало лучшим выражением признания гения и духа Иоганна Моста. Я выступила довольно кратко, но после мне рассказали, что моя речь о бывшем наставнике впечатлила даже недругов из группы Freiheit.
Отрывок из книги Эммы Гольдман «Проживая свою жизнь»