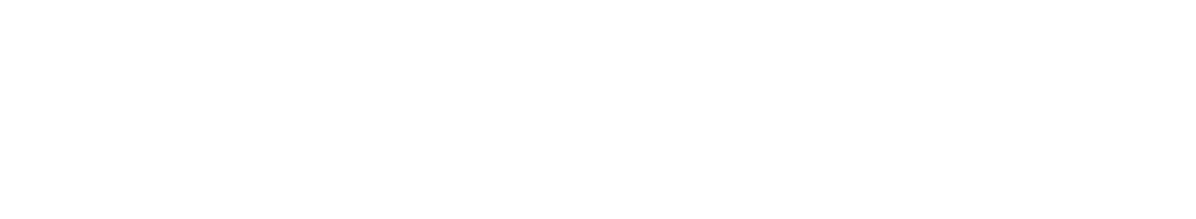В середине 20-х годов Шостакович познакомился с несколькими музыкантами, которым суждено было сыграть большую роль в формировании его личности. Прежде всего это знакомство с Болеславом Яворским и Борисом Асафьевым и дружба с Иваном Соллертинским — тремя выдающимися музыковедами, повлиявшими на его дальнейшее развитие.
С Болеславом Яворским, замечательным теоретиком, пианистом и педагогом польского происхождения, Шостакович познакомился в марте 1925 года в Москве. Чуть ли не с самого начала между двумя музыкантами протянулись нити глубокой взаимной симпатии. Будучи старше почти на тридцать лет, Яворский взял на себя роль опекуна молодого композитора, по-отцовски давая ему советы и стараясь помочь ему в налаживании творческих контактов. Их дружеские отношения сохранились до самой смерти Яворского в 1942 году. Благодаря Яворскому Шостакович лично познакомился с Асафьевым.
Петербуржец Борис Асафьев (1884–1949), который был на двадцать два года старше Шостаковича, отличался необыкновенной интеллектуальной одаренностью. Он получил разностороннее образование, изучая композицию у Лядова и историко-философские дисциплины в университете. После революции Асафьев очень активно участвовал в музыкальной жизни, с одной стороны, создавая музыку к спектаклям Большого драматического театра в Петрограде, а с другой — занимаясь научной работой в Институте истории искусств, где возглавлял музыкальный отдел. В молодости он был страстным энтузиастом авангарда и потому в 20-е годы всеми силами способствовал введению современной западной музыки в советский концертный репертуар, а в 1929 году опубликовал первую монографию о творчестве Стравинского. Дружба с Прокофьевым, который был его соучеником, имела для него особое значение. Композитор посвятил ему свою знаменитую Классическую симфонию, а Асафьев при каждом удобном случае пропагандировал музыку своего друга: так, в статье, опубликованной в 1927 году в газете «Жизнь искусства» (№ 7), он назвал Прокофьева одним из крупнейших художников современности.
Первой встречи с Асафьевым Шостаковичу было нелегко добиться. Молодой композитор, который хотел показать старшему коллеге свою только что законченную Первую симфонию, много раз звонил ему по телефону, Асафьев же отделывался от него, ссылаясь на большую занятость. «Я всегда боюсь занятых людей», — жаловался Шостакович в письме к Яворскому. Когда же в конце концов встреча состоялась, чрезмерно впечатлительный Шостакович почувствовал разочарование. Он писал Оборину: «По тому, как он меня встретил, ясно было, что он ничего хорошего не ждет. Почему-то на свете есть люди, которые меня и моего производства не знают, а если знают, то очень мало, но тем не менее в музыкальном отношении считают меня если [не] ничем, то очень малой величиной. К числу таких принадлежал Асафьев.
Встретил он меня страшно любезно. Напоил чаем. Поговорил об упадке интереса к музыке. Потом усадил меня за рояль и сказал: „Я очень часто не сразу разбираюсь в музыкальных произведениях, и если я вам ничего не скажу, то вы не смущайтесь. Когда-нибудь, при случае, я изложу вам или кому-нибудь свое мнение“». После встречи композитор запаниковал, опасаясь, что Асафьев в разговоре с Малько отзовется о симфонии отрицательно и дирижер откажется от запланированного исполнения.
Однако когда Шостакович начал посещать лекции Асафьева в консерватории, он изменил мнение об этом музыканте и с тех пор восхищался его эрудицией и интеллектом. Во время последующих встреч их отношения укреплялись и становились все теплее. Асафьев хотел помочь Шостаковичу начать педагогическую деятельность в консерватории, и действительно, через короткое время, с осени 1926 года, композитор приступил к занятиям по чтению с листа.
Однажды Асафьев был членом экзаменационной комиссии, перед которой Шостакович играл Вариации Богданова-Березовского. Дмитрий показывал свои произведения в ленинградской ACM, куда входил автор «Книги о Стравинском», в то время довольно критически отнесшийся к Скерцо для струнного октета, но зато с похвалой отозвавшийся о Первой симфонии. Для молодого композитора Асафьев был в ту пору большим авторитетом, тем более что поощрял Шостаковича к изучению произведений Шёнберга, Кшенека, Стравинского и французской «Шестерки».
Хорошие отношения между двумя музыкантами прекратились после того, как Асафьев не появился на премьере Первой симфонии. Рассерженный юноша писал в письме к музыковеду Сергею Протопопову, с которым поддерживал дружеские отношения: «А Асафьев все-таки не пришел. Не прийти слушать мою симфонию из-за отношений с Вейсберг и т. д…. У меня с Асафьевым все кончено». Можно только удивляться импульсивности и незрелости Шостаковича, который из-за столь ничтожной причины решил порвать отношения с человеком намного старше себя, выдающимся музыковедом и неоспоримым авторитетом в музыкальных кругах.
Дальнейший ход событий покажет, что Асафьев не всегда будет лоялен по отношению к Шостаковичу как в мелочах, так и в серьезных вопросах. Он не удосужился, например, передать композитору поздравительное письмо от Альбана Берга после исполнения Первой симфонии Бруно Вальтером. Что еще хуже, являясь циничным оппортунистом, он будет, в зависимости от политической ситуации, публично пересматривать свои взгляды, в том числе и на музыку Шостаковича. Однако в 20-е годы влияние Асафьева на Шостаковича было еще очень сильно. Есть определенная его заслуга в появлении наиболее радикальных в звуковом отношении произведений молодого композитора — фортепианной сюиты «Афоризмы» и его первой оперы «Нос». Асафьев воспринял их с энтузиазмом, хотя и не был еще убежден в значительности таланта их автора — столь же высоко, если не выше, оценивал он Гавриила Попова, которого считал самой большой надеждой русской музыки и даже какое-то время активно содействовал тому, чтобы именно Попов стал предводителем композиторской молодежи.
С годами пути Асафьева и Шостаковича расходились все больше. Этому, несомненно, способствовал и тот факт, что Асафьев, который и сам был композитором, создавал музыку эклектичную, лишенную каких-либо индивидуальных черт, неспособную пробудить в Шостаковиче интерес. Хотя в середине 40-х годов Асафьев и посвятил Восьмой симфонии Шостаковича статью, в которой назвал автора симфонии «одним из крупнейших мастеров советской музыки» и даже «гением», однако под конец жизни, чтобы не противоречить тогдашней культурной политике властей, ученый, которому перевалило за шестьдесят, публично отрекся от своих убеждений, поставил под вопрос ценность музыки Шостаковича, подверг критике Прокофьева, заклеймил Шёнберга, Кшенека и Хиндемита, а также объявил огромной ошибкой публикацию собственной «Книги о Стравинском». Шостакович ощутил тогда такую обиду, что не избавился от этого чувства до конца жизни. Через много лет после смерти Асафьева он признался молодому композитору Эдисону Денисову: «Я встречал в жизни много хороших людей и много плохих, но большего мерзавца, чем Асафьев, — никогда». Из принципа никогда никого не критиковавший публично, в статье по случаю своего пятидесятилетия Шостакович позволил себе написать о многом говорящие слова: «В дальнейшем наши пути с Асафьевым разошлись. Я имел не раз случай убедиться в неустойчивости его позиций в вопросах искусства…»
Вторым человеком, с которым Шостакович познакомился в тот период и которому суждено было сыграть большую роль в его жизни, был музыковед Иван Соллертинский (1902–1944). Впервые они встретились в 1921 году.
Соллертинский уже тогда имел репутацию большого эрудита, исключительного знатока музыки и полиглота: он бегло говорил на нескольких языках и диалектах, в том числе староперсидском и санскрите. Свой дневник — чтобы никто из посторонних не смог его прочитать — он вел на старо-португальском. Шостакович, застенчивый и с трудом вступавший в контакт с людьми, с первого раза не сумел завязать с ним знакомство: «…когда в 1921 году один мой друг познакомил меня с Соллертинским, то я поскорее стушевался, так как чувствовал, что мне очень трудно будет вести знакомство со столь необыкновенным человеком».
Во второй раз они встретились только через пять лет, во время экзамена в аспирантуру.
«Большое число ленинградских студентов пришли сдавать экзамен по марксизму-ленинизму, чтобы, сдавши таковой, получить право стать аспирантами, — вспоминал спустя годы Шостакович. — В числе ожидающих вызова в экзаменационную комиссию был и Соллертинский.
Я сильно волновался перед экзаменом. Экзаменовали по алфавиту. Через некоторое время в комиссию был вызван Соллертинский. И очень скоро он вышел оттуда. Я набрался смелости и спросил его:
— Скажите, пожалуйста, очень трудный был экзамен?
Он ответил:
— Нет, совсем не трудный.
— А что у вас спрашивали?
— Вопросы были самые простые: зарождение материализма в Древней Греции; поэзия Софокла как выразителя материалистических тенденций; английские философы XVII столетия и еще что-то.
Нужно ли говорить, что своим отчетом об экзамене Иван Иванович нагнал на меня немало страху?»
Когда им довелось встретиться в третий раз на приеме у Николая Малько, Шостакович «был совершенно поражен тем, что И. И. Соллертинский оказался необыкновенно веселым, простым, блестяще остроумным и совершенно „земным“ человеком». Продолжая свои воспоминания, композитор писал: «Гостеприимный хозяин не скоро отпустил гостей, и мы с Иваном Ивановичем шли домой пешком. В Ленинграде мы жили близко друг от друга. Нам было по пути. Долгий путь показался совсем коротким, так как идти было с Иваном Ивановичем легко и незаметно: столь интересно он говорил о самых разнообразных явлениях жизни и искусства. В процессе беседы выяснилось, что я не знаю ни одного иностранного языка, а Иван Иванович не умеет играть на рояле. Таким образом, уже на другой день Иван Иванович дал мне первый урок немецкого языка, а я дал ему урок игры на рояле. Впрочем, эти уроки весьма быстро кончились, и кончились плачевно: я не выучился немецкому языку, а Иван Иванович не выучился игре на рояле…» Тотчас же по возвращении домой с приема у Малько Шостакович объявил матери: «Я нашел друга. Удивительного. Он придет завтра».
«С этого дня Соллертинский стал завсегдатаем нашего дома, — вспоминала сестра композитора Зоя. — Приходил с утра и оставался допоздна. Нескладный. Очень бедный. Веселый. Язвительный. Он восхищал нас, но и удивлял, даже пугал едким остроумием: мы не привыкли судить людей беспощадно. Худо было тому, кто попадался ему на язык». А первая жена Соллертинского, Ирина Францевна Дерзаева, так описывала необычную дружбу двух музыкантов: «Не было дня, чтобы они не встречались. Мы жили тогда на Пушкинской улице, в большой коммунальной квартире: Соллертинский был совершенно равнодушен к быту, удобствам, как и Шостакович. Обычно они уединялись и вели нескончаемый разговор. Шостакович музицировал. Крепчайший горький чай требовался в неограниченном количестве. Когда встречи не удавались, Шостакович обычно звонил по телефону. Называли они друг друга с забавной уважительностью — на ты, но по имени-отчеству: Ван Ваныч, Дми Дмитрич. Они были влюблены друг в друга, не скрывая обоюдного восхищения. Соллертинский не уставал повторять: «Шостакович — гений, это оценят». Кроме ежедневных встреч друзья вели переписку. Впрочем, письма писал главным образом Шостакович, а Соллертинский не всегда на них отвечал, чем часто обижал друга.
В 20-е годы Соллертинский начал публиковать свои первые музыковедческие работы — об опере Кшенека «Джонни наигрывает», о «Кавалере розы» Р. Штрауса, о современной музыке, а в основном о западном авангарде. Вскоре он стал заведующим репертуарной частью Ленинградской филармонии, где уже укоренилась традиция исполнения музыки XX века; именно в эти годы были, между прочим, исполнены «Песни Гурре» Шёнберга и Фортепианный концерт Кшенека с участием Марии Юдиной.
Начиная с 1930 года Соллертинский публиковал статьи о большинстве вновь созданных Шостаковичем произведений и часто выступал о них на дискуссиях. О нем самом он писал:
«Шостакович как творческий тип полярно далек от романтически-дилетантского мифа о художнике, работающем лишь в моменты „озарений“, „наития“ и „божественного безумия“. Он прежде всего настоящий профессионал, владеющий техникой любого жанра. Он склонен порою даже полемически подчеркивать „ремесленность“ музыкальной профессии. Он работает помногу, быстро, нередко без черновиков, без клавираусцуга, сразу вписывая задуманное в партитуру. Подобно натренированному шахматисту во время сеанса одновременной игры на нескольких досках, Шостакович умеет работать сразу над несколькими музыкальными заданиями, иногда совершенно различного психологического диапазона».
Музыкальные пристрастия Соллертинского распространялись как на серьезную, так и на легкую музыку. Он принадлежал к первым в Советском Союзе знатокам творчества Густава Малера и до такой степени внушил Шостаковичу интерес к его музыке, что вскоре Малер стал для молодого композитора одним из крупнейших музыкальных увлечений всей его жизни. Немногих творцов музыки Шостакович почитал с таким же пылом. Помню, как в 1974 году он признался мне: «Если кто-нибудь сказал бы мне, что мне остался всего час жизни, я хотел бы послушать еще раз последнюю часть „Песни о земле“». Соллертинский пробудил в Шостаковиче интерес не только к Брамсу и Брукнеру, но также Иоганну Штраусу-сыну и Жаку Оффенбаху: будущий автор оперетты «Москва, Черемушки» раньше не представлял себе, как серьезный музыкант может восхищаться легкой музыкой.
Осенью 1931 года Шостакович познакомился с режиссером Исааком Давыдовичем Гликманом, который вскоре подружился с ним и с Соллертинским. Столь же большую радость доставляли ему только встречи с Виссарионом Шебалиным и Львом Обориным — в силу обстоятельств довольно редкие, поскольку оба музыканта жили в Москве.В конце 1926 года Шостакович неожиданно преодолел кризис и очень быстро сочинил одночастную фортепианную Сонату. С первого взгляда казалось, что это произведение вышло из-под пера совершенно другого композитора. Соната стала свидетельством коренной перемены, произошедшей в Шостаковиче в то время, доказательством полного отказа от музыкального языка, выработанного в ходе учебы.
Впервые он порвал и с тональностью, и со стереотипными формальными схемами. Связь этого произведения с традиционной формой сонаты чисто символическая — сочинение представляет собой скорее нетрадиционную по звучанию фантазию, состоящую из чередования различных тем и мотивов. Композитор отошел в Сонате от классически-романтической традиции большого пианистического искусства, трактуя фортепиано чуть ли не как ударный инструмент.
Сочинение это исключительно трудное для исполнения и свидетельствующее о том, что уже в те годы пианистическая техника автора была весьма развитой и зрелой.
Шостакович исполнял Сонату публично всего несколько раз. После декабрьской премьеры в Ленинграде он дважды сыграл ее в январе 1927 года для московской публики: первый раз — в консерватории и второй — в Зале имени Бетховена в Большом театре. После одного из этих выступлений, когда слушатели аплодировали ему без особого энтузиазма, он сказал со сцены тихим, застенчивым голосом: «В целях лучшего усвоения этой музыки я сыграю ее еще раз», — после чего повторил Сонату целиком. Следующие выступления состоялись после закрытия Шопеновского конкурса: 1 февраля — в Варшаве, через два дня — в Берлине и, судя по всему, последний раз — 14 сентября 1935 года в Ленинграде на авторском концерте. О более поздних авторских исполнениях Сонаты ничего не известно, а другие музыканты пока не проявляли интереса к произведению, за исключением румынского композитора и пианиста Михаила Жоры (1891–1971), который во второй половине 30-х годов несколько раз исполнял Сонату в своей стране — впрочем, также без особого успеха.
Произведение в основном раздражало слушателей, и только немногие были способны понять эту сложную музыку. Леонид Николаев сказал с горькой иронией: «Разве это Соната для фортепиано? Нет, это „Соната“ для метронома в сопровождении фортепиано!» В 1935 году видный музыковед Михаил Друскин определил Сонату как «крупную творческую неудачу композитора», отметив, что в ней встречаются элементы прокофьевской динамики с «ударно-шумовой трактовкой фортепиано». Один из немногих положительных отзывов содержится в рецензии Виссариона Шебалина, который констатировал: «Блестящее и увлекательное фортепианное изложение выгодно отличает сонату талантливого ленинградского автора от многих quasi-фортепианных сочинений, к сожалению, столь частых в последние годы. Некоторая сухость мелодики, гармоническая жесткость и неопределенность формы преодолеваются разнообразием динамики и юношеским задором, находящим свое выражение в контрастной смене движений и в буйном разбеге быстрых частей сонаты».
Шостакович имел возможность показать Сонату Прокофьеву. Это случилось во время их первой встречи, 23 февраля 1927 года в Ленинграде. Живший в то время за границей создатель Классической симфонии впервые за много лет приехал на родину и впечатление об этой встрече записал в дневнике так: «…Шостакович, совсем молодой человек, не только композитор, но и пианист. Играет он бойко, наизусть, передав мне ноты на диван. Его Соната начинается бодрым двухголосием, несколько баховского типа, вторая часть сонаты, непрерывно следующая после первой, написана в мягких гармониях с мелодией посередине. Она приятна, но расплывчата и длинновата. Анданте переходит в быстрый финал, непропорционально короткий по сравнению с предыдущим. Но все это настолько живей и интереснее Шиллингера, что я радостно начинаю хвалить Шостаковича. Асафьев смеется, что Шостакович оттого мне понравился, что первая часть его Сонаты написана под моим влиянием». В написанных позже воспоминаниях Прокофьева читаем: «Молодые ленинградские композиторы показали мне свои сочинения. Из них особого внимания заслуживали Соната Шостаковича и Септет Гавриила Попова». Сам же Шостакович никогда не вспоминал об этой встрече, словно у него не осталось от нее никакого впечатления.
Первоначально в нотах сочинения стоял заголовок: «Октябрьская соната», но через три года композитор отказался от этого названия. Соната довольно быстро была предана забвению, однако критики еще долгие годы навешивали на нее ярлык «формалистического экспериментаторства».
Следующее произведение, созданное уже по возвращении с Конкурса имени Шопена, также предназначалось для фортепиано. Над циклом «Афоризмы» Шостакович интенсивно работал с 25 февраля по 7 апреля, сочинив десять необычных миниатюр с названиями, продолжавших звуковые эксперименты Сонаты. Фантазия композитора в «Афоризмах», кажется, не имеет границ. Новаторским было уже само музыкальное повествование, сконцентрированное до веберновских размеров — например, четвертая часть (Элегия) умещается в восьми тактах и длится всего 46 секунд! Ноктюрн записан в бестактовой нотации. В Похоронном марше появляются фортепианные флажолеты, получаемые путем беззвучного нажатия клавиши во время звучания ранее взятого и удерживаемого аккорда. Трехголосный канон записан на трех отдельных нотных станах, а начинающий его атональный пятизвучный мотив становится исходным пунктом для типично пуантилистского развития — сходство со стилем Веберна в этой миниатюре совершенно очевидно. Заголовки не соответствуют музыке: Похоронный марш звучит гротесково и должен исполняться в быстром темпе, Ноктюрн не имеет ничего общего с традицией XIX века, Этюд пародирует «Школу беглости» Черни. Название «Афоризмы» предложил Болеслав Яворский. Дружеские отношения с этим выдающимся польским музыковедом постоянно крепли, и в знак благодарности композитор подарил Яворскому рукопись сочинения.
Впервые Шостакович сыграл «Афоризмы» осенью 1927 года в Ленинграде, на организованном ACM концерте, на котором он, кроме того, аккомпанировал певице Лидии Вырлан. Новое сочинение встретило еще большее непонимание, чем Соната, и это даже привело к разрыву отношений между Шостаковичем и Штейнбергом, уже не признававшим тех направлений, которые интересовали его ученика. Зато Борис Асафьев оказался горячим поклонником обоих сочинений. «Мне больше нравятся его [Шостаковича] фортепианные вещи последнего периода, где звучит ищущая, беспокойная мысль», — писал критик.
К сожалению, это был, пожалуй, единственный авторитетный голос, положительно оценивший эксперименты молодого композитора.
Сам же он на аспирантском экзамене в 1928 году так охарактеризовал свое произведение: «В сочинениях камерно-инструментальных меня интересовала задача отыскания нового стиля фортепианного изложения, что мне удалось отчасти в „Афоризмах“, где стиль исключительно полифонический, малоголосный». Несмотря на то что «Афоризмы» были напечатаны, они не удержались в репертуаре, как явление, слишком радикальное для российских музыкантов 20-х годов.
Отрывок из книги Мейера Кшиштофа «Шостакович: Жизнь. Творчество. Время»