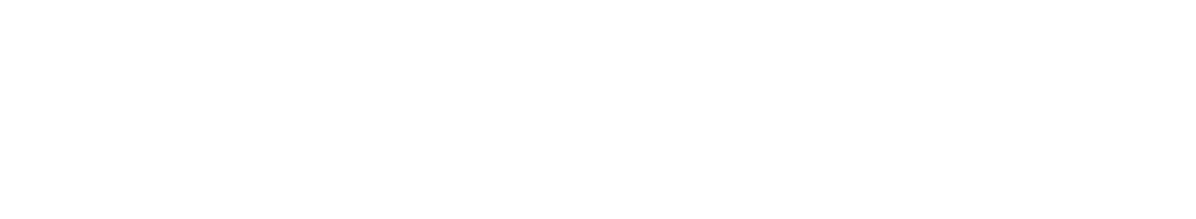Переходящее Красное знамя Усть-Вымского исправительно-трудового лагеря НКВД CCCH, изготовленное кустарным способом и вручавшееся наиболее отличившимся в лесозаготовках заключенным. Артефакт датируется предположительно концом 30-х годов — это было время главных «трудовых рекордов» Устьвымлага, существовавшего с 1937-го по 1956 годы. На лицевой стороне красного полотнища золотистыми и голубыми нитками вышиты герб СССР и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». На тыльной стороне надпись «Переходящее Красное знамя Устьвымлага НКВД за лучшую работу по лесоэксплоатации», все буквы которой нанесены на ткань краской через трафарет. Стяг очень большой, без древка, края по периметру отделаны золотистой бахромой. Один из нижних уголков полотнища отсутствует. Оригинал. Обладание этим знаменем давало заключённым из победившего подразделения призрачную надежду на временное улучшение пайка и бытовых условий. Однако надежда была обманчивой: как показывала статистика, именно передовики быстрее других заключённых погибали от истощения, поскольку даже улучшенный паёк не мог компенсировать потерь организма от непосильного труда.
* * *
Вообще-то Вымь — очень красивая река на севере европейской части России. Со спокойным течением, с прозрачной водой, с высокими таёжными берегами. Идеальное место для рыбалки. Когда-то давно этот приток реки Вычегды носил другое название – Елева, а позже был переименован в Вымь. Оба эти названия образованы от корня «емынг», которое пришло из языка древних хантов и означало «священный».
Вот на этих-то «священных» берегах с 1937-го по 1960 годы и располагался Устьвымлаг – один из самых суровых лагерей НКВД СССР. Тихие воды Выми, Вишеры, Лупьи и других местных речушек наверняка помнят, как полуголодные измождённые люди более полувека сплавляли по течению заготовленный лес. Окрестности этих северных рек безмолвно приняли тысячи безымянных могил, в которых покоятся расстрелянные или замученные адским трудом заключенные и спецпоселенцы.
В истории СССР Устьвымлаг известен прежде всего тем, что в нём содержалась супруга «всесоюзного старосты» Михаила Калинина Екатерина Ивановна Лорберг и один из основателей общества «Мемориал», писатель Лев Разгон, позже подробно описавший годы своего заключения. Однако первые узники появились в этих суровых местах ещё в конце 20-х годов XX века – в разгар коллективизации и борьбы с кулачеством. Тогда в глухих и непроходимых урочищах Коми впервые раздались визг пил и стук топоров — это были высланные на поселение этнические немцы, чеченцы, татары, украинцы, зажиточные казаки, крестьяне и прочий, неугодный новой власти люд.
Впрочем, тогда это был ещё не Устьвымлаг. Собственно лагеря в Коми появились с образованием весной 1930 года Управления лагерей (УЛАГ) ОГПУ. В том же году это ведомство стало именоваться Главком — так и возникла печально известная аббревиатура ГУЛАГ. Но в отличие от большинства других советских лагерей, Усть-Вымскому ИТЛ, равно как и другим подобным «спецучреждениям» Коми, была отведена не столько экономическая, сколько геополитическая роль. Её довольно чётко сформулировал буквально за неделю до создания УЛАГа фактический глава ОГПУ Генрих Ягода в письме своим подчинённым:
«Надо превратить лагеря в колонизационные поселки, не дожидаясь окончания срока заключения. Нам надо быстрейшим темпом колонизовать Север. И вот мой проект: всех заключённых перевести на поселковое поселение до отбытия срока наказания… Женщин тоже селить и разрешать жениться. Надо это проделать сейчас же, немедленно. Тут надо найти людей, которые увлекутся этой идеей…».
Энтузиасты, разумеется, тут же нашлись. Ну а вместе с заключенными «колонизировать» северные территории тысячами отправляли спецпереселенцев — тех, кого без суда и следствия в одночасье лишали дома, имущества, почти всех прав, а потом угоняли в дремучую тайгу.

Председатель ГПУ Генрих Ягода (крайний слева в третьем ряду снизу) рядом с М.И.Калининым, И.В.Сталиным, В.М.Молотовым, своим замом И.С.Уншлихтом и Л.П.Берия. Скоро супруга Калинина с помощью Г.Ягоды отправится «осваивать» Север, а Л.Берия будет лично руководить её избиением на Лубянке.
Уже через три дня после появления ГУЛАГа секретарь Севкрайкома ВКП(б) Сергей Бергавинов (через семь лет, в ходе чисток 1937 года будет арестован и, не дожидаясь расстрела, покончит с собой прямо в камере) в письме председателю СНК СССР Вячеславу Молотову отчитывался о проделанной работе по «освоению» спецпереселенцев: «Посылаю Вам снимки наших бараков, которые мы выстроили за 35 дней свыше 1000, вместимость до 75 тысяч семей. Стоимость барака обошлась 3 рубля на человека». В этом же письме он гордо сообщал, что в Коми в ближайшее время будут отправлены 12 тысяч семей раскулаченных. Бергавинов лгал: людям, добравшимся до места высылки, чаще всего не предоставляли вообще никакого жилья — им приходилось наскоро строить бараки своими силами, а до тех пор ютиться в шалашах и землянках. А остовы бараков и по сей день высятся в лесах Коми.
Эта страница в освоении советского Севера в наши дни мало кому известна. Большинство бывших узников этих «спецпоселений» сегодня уже ушли из жизни, а их коменданты и надзиратели по понятным причинам стараются не вспоминать о своей «боевой молодости». Впрочем, и по сей день в России живут немало людей, родившихся в этих поселениях. Благодаря им мы можем узнать, например, о том, что одним из первых ещё в 1930 году – аккурат к принятию апрельского постановления СНК СССР «Об исправительно-трудовых лагерях» — в этих местах появился спецпоселок Ындин (на языке коми означает «У реки Ын»), население которого составляли в основном немцы — около 200 семей, выселенных с Поволжья. К 1951 году этот населенный пункт полностью опустел — немногих оставшихся в живых переселили в другие спецпосёлки. «Очень хорошие люди были, безвинные страдальцы. Поделишься, бывало, с ними куском хлеба или картошкой, так они в ответ и благодарность, только плакали. Никакой вражды, неприязни к ним не было. Они ведь страдали только за то, что имели немецкую национальность. Переселенцы были так голодны, что некоторые собирали картофельные очистки и ботву в мусоре. А потом, наевшись всего этого, корчились от боли», – вспоминает одна из жительниц окрестных деревень Анфия Артеева.

Предположительное место расположения лагеря Ындин на берегу реки Ын в Коми. Наши дни. Вид со спутниковой карты Yandex.
В том же 30-м году на карте Коми появился спецпоселок Вежаю, где в 13 бараках поначалу размещались 113 высланных немецких семей (581 человек), работавших на лесозаготовках и сплаве за 10-25 рублей в месяц. Прожить на эти деньги было невозможно, особенно в холода, поэтому зиму 1932-33 годов не пережили около 70 жителей Вежаю. В начале 30-х в Усть-Вымском районе (самом удаленном месте спецпоселений) были образованы спецпосёлки Мещура, Ветью, Усть-Коин, Выльордым, Емельстан, Соль и Расъю. Вскоре на территориях будущего Устьвымлага появляются ещё 5 спецпосёлков — Немецкий, Велдоръя, Усть-Вель, Соръель и Чесъель. В 1933 году в них проживало 779 семей (2654 человека, в т.ч. 803 ребенка) из южных областей России и Белоруссии. А ещё были спецпоселки Видзув-Яр, Одъю, Вэръю, Крутобор, Нившера, Лева-Керос, Лопъю, Визинга, Лесной Чер, Сапыч, Веж, Певк, Рабог, Ичет-ди, Сой-ю, Горт-ель, Пивъю, Пиня-из, Песчанка, Новый Бор, Лопъю-вад, Вуктыль, Божъюдор, Шудог, Вожаель, Воквад… И ещё, ещё, ещё… Это не просто десятки непонятных, труднопроизносимых названий — за каждым из них гибель сотен людей.
Всего к октябрю 1930 года в 27 спецпоселках Коми числились около 20 тысяч человек. Практика заселения была следующей: семьи переселенцев разделялись – все трудоспособные мужчины отправлялись на строительство бараков, а их жёны и дети временно размещались в близлежащих деревнях или землянках. По мере возведения жилья семьи воссоединялись. Клавдия Усенкова, бывшая жительница одного из такх спец поселений, рассказывала:
«Мы, Усенковы, астраханские казаки. В 1929 году, в марте, нашу семью по разнарядке сверху выселили из станицы. Она к тому времени состояла из десяти душ: дедушка с бабушкой, мои родители с двумя детьми и отцовский брат с женой и двумя мальчиками. Все жили в одном доме. Дед был круглый сирота, жил в юности у помещика, работал пастухом, там научился резать скот, мясничать. Бабушка была у помещика ключницей. Когда дед женился, помещик дал ему пару быков, лошадь, корову, кур, индюшек. Все работали от зари до зари. Так и стали зажиточными. Объявили о раскулачивании в полночь. Тут же велели собраться. Нас, детей, посадили на подводы, взрослые 35 километров до Волгограда брели пешком. Раскулаченных собрали вместе, подогнали к берегу баржу, загнали всех в трюмы. Довезли до Лузы Кировской области. Разместили в бараках с пятиэтажными нарами. Каждой семье место для ночлега определили на одном из этажей. Народу – тьма. Вспыхнула эпидемия. Барачные этажи начали быстро редеть. Умер мой родной брат Коля, ему было два с половиной года, и два двоюродных братика тоже. На три семьи Усенковых остался один ребенок – я, пятилетняя. Привезли в Маджу. Всех мужчин погнали в лес, за 20 километров от села. Глухая тайга. Степняки с роду ничего не строили из бревен, не валили лес… Но долго ли на севере сможешь прожить в шалаше? Засучили рукава. Построили бараки. Когда закончили, привезли туда семьи. Барак был разделен на четыре части, в каждой из частей приютились восемь семей. Односельчане старались поселиться вместе. Так возник поселок Расъю. Вскоре русские семьи разбавили немцами, украинцами. Людей в Расъю перебывало много. Об этом сами за себя говорили и два больших кладбища. Их назвали старым и новым».
Работали переселенцы на лесозаготовках, сплаве, на кирпичном заводе и на прокладке шоссе, позже — на строительстве железной дороги. В хозяйственном плане спецпереселенцы находились в ведении лесозаготовительных организаций (главным образом, треста «КомиЛес»), а в административном – подчинялись комендантам ОГПУ. Так что комендатуры, ведавшие делами спецпереселенцев, были созданы во всех девяти районах Коми. Кстати, далеко не многие знают, что часть этих спецпоселков работала ещё целых 20 лет после смерти Сталина — т.е. еще почти 15 лет после ликвидации самого ГУЛАГа!
Условия жизни в северных спецпоселках были крайне тяжелыми, не говоря уже об условиях труда. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что только в декабре 1930 года в Коми прошли 17 забастовок переселенцев с требованиями сократить нормы выработки и повысить оплату. Все выступления жестоко подавлялись опергруппами ОГПУ: зачинщиков расстреливали, остальных отправляли в другие лагеря. В том же декабре 1930-го из спецпоселков Коми бежали 1594 человек. Силами оперативных групп Управления Северных лагерей особого назначения (УСЕВЛОН) большинство из них были задержаны и осуждены. Однако бежать из северной каторги отчаявшиеся переселенцы не перестанут вплоть до ликвидации ГУЛАГа.
1931 год — год десятилетия автономной республики Коми — стал для неё знаковым. Во-первых, благодаря беспощадной эксплуатации переселенцев область отчиталась об увеличении объема лесозаготовок сразу в 6 (!) раз. Во-вторых, с 1931 года высланные в регион «кулаки» стали официально именоваться спецпереселенцами – в этом статусе они проходили и по всем документам. А 6 июня 1931 года на месте упраздненного УСЕВЛОНа были созданы два крупных лагеря: Ухто-Печорский (около 55 тысяч человек, вел разведку и освоение стратегических полезных ископаемых) и Усть-Вымский лагерь (специализация — лесозаготовка, первоначальная численность заключенных — 23 тысячи человек). Правда, уже 5 марта 1932 года Устьвымлаг был закрыт и передан Ухтпечлагу как лагерное отделение. Так что с первой попытки запустить Устьвымлаг не удалось. Вторая попытка спустя 5 лет будет успешной.
Несмотря на все жалобы и прошения, улучшать условия жизни в северных спецпоселках власти не собирались: часть из них по-прежнему круглый год жила в землянках и шалашах. Не удивительно, что в сводках ОГПУ постоянно отмечалась высокая смертность среди переселенцев. Большинство погибших составляли взрослые в возрасте от 16 до 50 лет и старше. Основные причины гибели – цинга, истощение и голод.
В апреле 1933 года постановлением Совета народных комиссаров (СНК) спецпоселки были переименованы в трудпосёлки, а «спецпереселенцы» стали называться «трудпоселенцами». Этим документом признавалась перемена статуса высланных раскулаченных с перспективой перевода их на положение вольнонаемных — что отчасти и произошло после принятия сталинской Конституции 1936 года. Вот какое письмо после введения нового Основного закона написал в местную газету обитатель спецпосёлка Ичет-ди трудпоселенец Петр Гуляев: «Внимательно читал и перечитывал каждый пункт новой Сталинской Конституции. От всей души благодарю партию и правительство. Я порвал связь с проклятым прошлым классом кулачество и в честном труде перевоспитываюсь в гражданина Советской страны. Какое счастье! Я буду иметь право Советского гражданина. Спасибо партии, нашему Советскому правительству и тебе, родной Сталин».
Однако полного восстановления прав переселенцев так и не случилось. Они, как и прежде, должны были регулярно отмечаться в комендатурах, получали минимальную зарплату, не имели возможности покинуть свои трудпосёлки, поскольку паспорт им никто не возвращал. Не говоря уже о том, что переселенцы постоянно подвергались уголовному преследованию по надуманным обвинениям – от великодержавного шовинизма и вредительства до контрреволюционной деятельности и антисоветской пропаганды. Разумеется, почти все обвиняемые тут же получали лагерный срок. Довольно часты были аресты немцев-переселенцев по обвинению в связях с заграницей: используя личные контакты 20-х годов, они писали о своем тяжелом положении в адрес различных зарубежных организаций, собирали подписи под коллективными письмами протеста. Сначала власти смотрели на такие обращения сквозь пальцы, но вскоре подобные прошения стали расцениваться как дискредитация советской власти, а потому их авторов стали отправлять в лагеря (подробнее о российских немцах-переселенцах и их попытках найти хоть какую-то помощь за рубежом читайте в истории «Забытое письмо»). Справедливости ради отметим, что изредка партбюро Коми обкома все же осуждало «грубейшие нарушения революционной законности» в тех или иных северных спецпоселках или лагпунктах – самовольные расстрелы, избиения, издевательства, произвол комендантов. Однако эти осуждения, как правило, заканчивались арестом какого-нибудь коменданта и его команды, но никак не облегчали положения самих заключенных.
Летом 1933 года в Коми приехал московский журналист Владимир Канторович (1901 – 1977). В книге «Большая Печора», которая вышла в 1934 году, содержались его очерки о строительстве заключенными и спецпереселенцами шоссе от села Усть-Вымь до Чибью. Описывая методы большевистского освоения Севера, Владимир Яковлевич утверждал, что условия жизни и труда заключенных были «нормальными», подчеркивал «огромную человечность советской карательной (исправительно-трудовой) политики». Спустя три года журналист сам был осужден за «контрреволюционную деятельность», оказался в одном из лагерей, а затем до 1956 года находился в ссылке, где смог убедиться на собственном опыте в «человечности» ГУЛАГа. Не будем скрывать, в 30-х годах о «гуманности» сталинской исправительно-трудовой системы вынуждены писать многие советские писатели и журналисты – подробнее об этом нелегком моральном выборе советской творческой интеллигенции читайте в статье «Сговорчивая муза».
В отличие от Владимира Канторовича, бывший заключенный одного из исправительно-трудовых лагерей в Коми писатель Михаил Розанов предоставил потомкам возможность узнать горькую правду о лагерной жизни изнутри. Исправительно-трудовые лагеря Розанов называет не иначе как «истребительно-трудовыми»:
«Жуток и бесконечен счет «победы большевиков над Севером». Пот, кровь и трупы. Трупы, кровь и пот. По всему миру разносится пропаганда об индустриализации Севера героическим советским народом. Ложь! Север осваивают только заключенные. Концлагерь — наглядная школа теории естественного отбора и борьбы за существование. Выживают более ловкие и сильные, вымирают робкие и слабые. Эксплуатация человека большевизмом видна в концлагере как на экране, она бросается в глаза даже близоруким. Кто хочет досконально изучить политику и методы большевизма, тому полезнее всего сесть, хотя бы на год, в концлагерь. Год практического изучения дает больше, чем двадцать лет долбежки в институте Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Туманные ученые определения, вроде — «каждому по труду», в концлагерях уже приняли вполне конкретные формы котлов и черпаков разного размера, — в зависимости от процентов выработки нормы и рода работы. Постояв год в очереди у котла № 8, до гроба не забудешь марксовых формулировок. Концлагерь — это оголенный большевизм под микроскопом. Состав советской каторги отражает новый тип испытавших многолетнее моральное уродование людей, измолотых государственной машиной и пропитанных советской философией жизни, с особым представлением о добре и зле. Над воротами лагерей красуется изречение Сталина: «Труд есть дело чести, дело славы, доблести и геройства». Хищный оскал режима прикрыт маской большевистского фарисейства».
В июле 1934 года постановлением ЦИК СССР был образован Народный Комиссариат внутренних дел СССР (НКВД), в состав которого вошло ОГПУ с ГУЛАГом, начальником которого стал Матвей Берман (подробнее о Бермане и других советских чиновниках, которые играли не последнюю роль в управлении исправительно-трудовой системой СССР – в истории «Тайная валюта ГУЛАГа»). Новая структура начала еще активнее выжимать из заключенных максимум выгоды. Результаты не заставили себя ждать: тем же летом переселенцы и заключенные Коми сдали в строй железную дорогу Воркута–Уса и автомобильное шоссе Усть-Вымь–Чибью. А в 1936 году, к 15-летию Коми, руководство Ухтпечлага представило юбилейный рапорт: за 5 лет лагерь дал стране 85 тысяч тонн нефти, более 365 тысяч тонн каменного угля, 800 тонн асфальтитов, объем лесозаготовок увеличился по сравнению с 1921 годом в 60 раз. Можно только догадываться, чего стоили эти показатели заключенным и переселенцам. Наконец, 16 августа 1937 года, вскоре после приказа НКВД СССР «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», согласно которому по всей стране планировалось репрессировать 267 тысяч человек, из них 80 тысяч расстрелять, на территории Коми были созданы два новых лесозаготовительных лагеря – Локчимский и Усть-Вымский. Именно передовики последнего ИТЛ и передавали когда-то друг другу представленное в нашей коллекции знамя.
С самого момента основания Устьвымлаг подчинялся непосредственно ГУЛАГу. Управление лагеря поначалу находилось в селе Усть-Вымь, с 1938 года — в Вожаёле. Родственники заключенных на своей корреспонденции в Устьвымлаг указывали почтовый ящик № 243. Всего в лагере было 24 лагерных пункта плюс множество подкомандировок. Они были раскиданы на несколько сотен километров в густой тайге и должны были поставлять стране миллионы кубометров леса. Начальниками Устьвымлага за 25 лет его существования успели побывать старший лейтенант Н.П.Комраков, старший лейтенант А.С.Черепанов, капитан П.М.Решетников, полковник С.А.Тарасюк, майор М.И.Еремеев, майор Г.М.Выползов, майор С.А. Шерстнев, майор А.Г.Калашников, капитан В.И.Боргунов, подполковник А.М.Шавыр.

Один из начальников Устьвымлага Сергей Тарасюк
К слову, имя Сергея Артемьевича Тарасюка мы обнаружили в книге «Великая Россия. Имена». Вот как о нем вспоминал один из заключенных:
«У нас в лагере были начальники умные и глупые, добрые и злые. Тарасюк был совсем другим. Он был рабовладельцем. Вопрос о человеческой сущности рабов его никогда не занимал и не беспокоил. Он настолько не считал заключенных сколько-нибудь равными ему, что мог и испражняться перед ними, если бы это ему было удобно. И при этом трудно было назвать его специально злым или особенно злым… Он поощрял хорошо работающих заключенных, особенно отличившимся рекордистам разрешал приводить к себе в барак женщин. И в лагере поддерживался неукоснительный порядок, при котором хорошо было тем, кто умел хорошо пилить лес, и плохо тем, которые — не имело значения, по каким причинам — этот лес пилить не умели. Был порядок. Была даже справедливость — если можно употребить это столь странно звучащее здесь слово… Ведь при Тарасюке начальники лагпунктов не позволяли себе самоуправничать, заключенных не обворовывали, им давали всё, что положено; выяснилось, что им положено иметь наматрасники и даже простыни, они появились, и арестанты спали на простынях, ей-ей… Правда, правда — он был справедливый начальник! Никого из начальников мы так не ненавидели, как ненавидели Тарасюка».
Выходит, Тарасюка в Устьвымлаге считали наименьшим из зол — хотя бы к тем, кто отдавался работе с головой, он относился неплохо. Методы его деятельности отлично характеризует такой эпизод: Тарасюк распорядился лишить 246 инвалидов лагерного лазарета дополнительной пайки в пользу узников-лесозаготовителей. Меньше чем через месяц все лишенные допдовольствия больные скончались.
Контингент Устьвымлага был очень разнообразным – в 1938-40 годы сюда ежедневно пешим этапом гнали сотни заключенных: латышей, немцев, поляков, евреев, украинцев, московских, смоленских, ставропольских, могилевских, дальневосточных профессоров, актеров, врачей, инженеров, крестьян. Примечательно, что подавляющую часть узников составляли осуждённые по 58-й статье и лишь чуть более 9% отбывавших наказание были уголовниками. После небольшого карантина всех новоприбывших разбивали по бригадам и выводили в лес — искупать свою вину перед страной. И здесь начинался ад: дать план любой ценой было главным в работе администрации лагеря.
О том, как встречал Устьвымлаг своих обитателей, рассказывал бывший заключенный Степан Кузнецов, воспоминания которого записал и обнародовал его внук:
«В бараках стояли двойные нары. Мы разместились на голых нарах. На следующее утро ещё раненько в бараке пошел шум. У некоторых товарищей украли вещи; воры были здесь же в бараке, уголовники, подсаженные к нам в Кирове. О краже заявили администрации пересылки, но администрация никаких мер не приняла. Утром нам выдали по пайке хлеба в 600 грамм, а завтракать повели в рядом стоящую зону 11-20 л/п. Так как у нас, как вновь прибывших не было: ни миски, ни ложки, то нам все это пришлось заимствовать у старых заключенных, заплатив за это 200 гр. хлеба. После завтрака нас погнали на работу, на лесной склад: перебирать, сортировать и складывать в штабеля доски».
Но разместить по баракам всех новоприбывших заключенных удавалось далеко не всегда. Так, в январе 1940 года в лагеря Коми пригнали 7754 интернированных польских «осадников», для которых не было создано абсолютно никаких условий труда и быта. Инспектор НКВД Романов сообщал из Княжпогоста в Москву: «Больше половины военнопленных размещены в землянках, не обнесенных колючей проволокой. Бараки, в которых размещены остальные военнопленные ветхие, крыши протекают. Все помещения, занимаемые военнопленными, к зиме не подготовлены. Нары поделаны из круглого леса, к тому же матрацев, подушек и даже соломы нет. Бани, дезкамеры, стационара нет, больные военнопленные помещены в палатках на нарах, сделанных также из кругляка». Вряд ли советские архивы хранят информацию о том, какая часть из этой группы поляков выжила.
Количество заключенных Устьвымлага, занятых на лесозаготовках, деревообработке и дорожном строительстве, в разные годы варьировалось от 14 до 27 тысяч человек. Об условиях содержания в лагпунктах Устьвымлага, о порядках, царивших в этом месте, можно составить приблизительное представление, ознакомившись с выдержками из «Инструкции о режиме содержания заключенных в ИТЛ НКВД СССР» от 2 августа 1939 года:
- Лагерный пункт изолируется колючей проволокой. Зона ограждения должна иметь форму прямоугольника или квадрата, обеспечивая лучший просмотр. Для наблюдения и охраны территории с внешней стороны устанавливаются пост-вышки для часовых.
2. Заключенные размещаются в бараках. Хождение заключенных из барака в барак запрещается. В зоне лагпункта допускается свободное передвижение заключенных до сигнала отхода ко сну.
3. Перед отходом ко сну до отбоя производится вечерняя поверка, для чего заключенные выстраиваются перед бараком. Поверка производится поименно дежурным по лагерному подразделению и должна занимать не более 30-40 минут.
4. По окончании поверки подается сигнал отхода ко сну, после которого все заключенные лагпункта обязаны быть в своих бараках и ложиться спать, прекратив шум, разговоры, всякое передвижение. Отбой и подъем устанавливаются с таким расчетом, чтобы заключенные имели для сна не менее 7 часов.
5. За нарушение правил внутреннего распорядка, недобросовестное отношение к труду или отказ от работы, на заключенных налагаются взыскания:
а) лишение свиданий, переписки, передач на срок до 6 месяцев и возмещение причиненного ущерба;
б) перевод на общие работы;
в) перевод на штрафной лагпункт сроком до 6 месяцев;
г) перевод в штрафизолятор сроком до 20 суток;
д) перевод в худшие материально-бытовые условия (штрафной паек, менее благоустроенный барак и т.п.)
Кормили в Устьвымлаге и без штрафного пайка очень скудно – на заключенных не только экономили, но и постоянно их обворовывали. С продовольственных складов лагеря только за второй полугодие 1937 года были совершены хищения на 400 тысяч рублей. Согласно Приказу НКВД СССР от 14 августа 1939 года на одного заключённого, занятого на основных производственных работах и выполняющего норму выработки, в день было положено: хлеба ржаного 1200 граммов, муки пшеничной 60 гр., крупы 130 гр., мяса 30 гр.(!), рыбы 158 гр., растительного масла 12 гр., макарон 10, сахара 13, чая 2, картофеля и овощей 600 граммов. Другими словами, кроме хлеба в Устьвымлаге почти ничего и не было.
Один из узников Устьвымлага — епископ Саратовский Вениамин (Милов) – писал своим родным о страшном месте своего заключения: «Морозы у нас нынче столь суровые… Ртутный столбик так и скачет к 50 градусам. Отсюда — частые обморожения«. А вот еще одно воспоминание: «В сильные морозы все обязаны надевать входящие в зимнее обмундирование “лицевые маски” против обморожения. Маски с прорезями для глаз, носа и рта сделаны из текстильных отходов: ярких ситцев, вафельной ткани и прочего тряпья. Из-за этих масок толпа зеков смахивает на фантастический страшный карнавал с какой-нибудь картины Босха». О суровости Устьвымлага действительно ходили легенды – говорили, что зимой на лесоповале целые бригады заключенных вымерзали вместе с конвоем, а на их место тут же гнали новых обреченных. Так закалялась эта территория у «священной» реки.
Начальником первого лаготделения Устьвымлага работал старший лейтенант Госбезопасности Иван Залива. О его усердии которого на исправительно-трудовой ниве говорит такой факт: когда в ноябре 1938 года в отделение прибыл дальневосточный этап с 270 китайцами из Манчжурии, Залива поставил их на ручную трелевку (доставка бревен к лесовозной дороге). Обычно эту работу выполняли лошади, но Залива любил и жалел лошадей. И вот работящие китайцы брали вдесятером здоровенное бревно весом в 2 тонны и несли на плечах к дороге. К февралю 1939 года они все умерли, выжил только один – повар. А в суровую зиму 1938-1939 годов от голода, болезней и непосильного труда в этом лаготделении умирали по 25-30 зэков в сутки — около 1500 человек за зиму. Тех, кто не хотел работать, отправляли на штрафную подкомандировку, располагавшуюся в 10 км от основного лагеря, или в штрафной лагпункт №9. Мало кто выходил из этих зон живым. Отмучившихся хоронили в больших ямах, вырытых в окрестных лесах.

Заключенных в Устьвымлаге чаще хоронили в общих круглых ямах. На месте индивидуальных захоронений остались лишь небольшие холмы
В лагерном советском жаргоне даже появился специфический термин — “аммональники”. Так в северных отделениях ГУЛАГа называли ямы вместимостью от десятка до сотен трупов. В условиях вечной мерзлоты «аммональники» делали с помощью взрывчатки: динамита, толуола и аммонала.
Кровью и потом заключенных за 1938 год Устьвымлаг заготовил и сплавил почти 700 тысяч кубометров древесины и еще 212 тысяч дров – это означало 100% выполнение плана. Кто знает, быть может, в погоне именно за этими трудовыми рекордами кому-то и пришла в голову идея сшить переходящее красное полотнище, представленное в нашей коллекции артефактов. Впрочем, сам по себе факт создания переходящего знамени для «передовиков» подневольного труда свидетельствует о том, что с производительностью в Устьвымлаге дела обстояли не лучшим образом. Например, в первом квартале 1940 года лагерь провалил нормативы по лесозаготовкам и задолжал государству 120 тысяч кубометров древесины. Остается только догадываться, как наказали несчастных узников за срыв обязательств. После того, как в середине 1940-го года был изменен основной профиль деятельности Устьвымлага — с лесозаготовок на шпалопиление — ИТЛ стал еще более убыточным: потери за год составили 5,7 млн рублей! Причина таких показателей коренилась в физическом состоянии узников — оно было просто удручающим. Например, в лагпункте №1 вместо 800 человек в лесу работали не более 500, остальные «доходили» в стационарах и штрафных изоляторах. В лагпункте №9 из 700 заключенных на работу могли выходить лишь 32 человека, остальные же превратились в инвалидов, которые просто физически не могли выполнять тяжелую работу. Но государство нашло выход из ситуации: оно просто повысило нормы выработки для тех, кто ещё стоял на ногах. О нечеловеческих условиях жизни и работы в Устьвымлаге подробно написал в книге «Плен в своем Отечестве» бывший узник Лев Разгон:
«Устьвымлаг был лесозаготовительным лагерем обычного режима и носил все черты лагерей 1937-39 годов. Хотя они и выполняли обязанность давать лес, но это была все же «гильотина на хозрасчете» — это были лагеря уничтожения. Те, кто работали только лесорубами, были обречены на уничтожение. На медленную или же быструю смерть от истощения и жизни в условиях, невыносимых даже для такого пластичного и выносливого биологического существа, как человек. Могу смело утверждать, что ни одно крупное млекопитающее — ни коровы, ни свиньи, ни козы, ни какие-либо другие — не могли выдержать таких условий жизни, в каких месяцами, а то и годами выживали люди. Мне рассказывали, что головастые вурдалаки — плановики в ГУЛАГе — рассчитали, что каждый заключенный в лагере сможет работать три месяца и этим хоть несколько оплатить расходы на процедуры, связанные с его уничтожением. Ну, а после трех месяцев его сменят другие.
Первую зиму на Первом лагпункте Устьвымлага я прожил в палатке. Огромная, длинная палатка из обыкновенного брезента, в ней двухэтажные сплошные нары, даже не из досок, а из кругляка — тонких бревен; посередине палатки — печь, сделанная из обыкновенной железной бочки из-под бензина. Печь раскалена до красноты, находиться около нее невозможно, но зато в углах палатки — нетающие сугробы снега. И, конечно, никаких постельных принадлежностей. Так тесно, что все спят на боку, прижавшись друг к другу, и поворачиваться можно только всем вместе — по команде… И хотя нары из кругляка не самое удобное ложе, а подушку заменял обрубок бревна, мы засыпали мгновенно: ах, какое это блаженство — проваливающий в ничто арестантский сон! И какое это ужасное пробуждение, когда тебя разбудит удар молотком по рельсу у входа и надо первым делом отдирать от нар и брезента примерзшие за ночь волосы… Из нашего московского этапа в 517 человек, прибывших осенью 38-го года, к весне 39-го осталось всего 22 человека. А остальные, вместе с сотнями других, закопаны на лагерном кладбище, которое сейчас, наверное, и обнаружить невозможно под зарослями поднявшегося молодого леса и кустарников. Умерших сменяли другие».

Глеб Бокий
В том же 1938 году, в октябре, в пересыльном пункте Устьвымлага Вогваздино умерла супруга Льва Разгона – Оксана Глебовна Бокий. Фамилия и отчество прямо указывают нам на то, что это была дочь некогда всемогущего Глеба Бокия – главы 9-го секретно-шифровального отдела ГУГБ НКВД СССР, который на заре советской власти прославился как кровавый председатель Петроградской ЧК, один из организаторов «красного террора», а позже как создатель лаборатории по разработке ядов и препаратов для влияния на сознание арестованных или устранения неугодных. В ноябре 1937 года сам Бокий был арестован и расстрелян, а меньше чем через год по этапу в последний свой путь отправилась и его дочь.
Но, пожалуй, самой известной узницей Устьвымлага была жена председателя Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР Михаила Калинина – Екатерина Ивановна (Иоганновна) Лорберг. В браке со «всесоюзным старостой» у Екатерины было пятеро детей: трое своих и двое приёмных. Эта семья революционеров была странной – супруга на несколько лет сбегала от мужа из Кремля на Алтай, так что у самого Калинина была фактически вторая гражданская жена. Как бы то ни было, развод Михаил и Екатерина не оформляли и относились друг к другу с теплотой. Однако высокий пост мужа (Калинин в течение 27 лет был председателем сначала ЦИК, а затем и Президиума Верховного Совета СССР) не спас Екатерину Ивановну от репрессий. Она была арестована 25 октября 1938 года по так называемому антитеррористическому закону, подписанному, к слову, её собственным мужем еще 1 декабря 1934 года, сразу после убийства С.М.Кирова. Закон этот был краток и очень красноречив:
«Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти:
1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней;
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде
3. Дела слушать без участия сторон;
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать;
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора».

М.И.Калинин с супругой
Следствием было «установлено», что супруга М.И.Калинина с 1929 года была тесно связана с участниками антисоветской террористической организации правых и всячески содействовала им – вплоть до предоставления квартиры для тайных собраний. Хотя с «правыми террористами» жена Калинина связана, разумеется, не была, но критические замечания в адрес Сталина она, похоже, временами отпускала. Вот что вспоминала вдова Николая Бухарина Анна Ларина, сокамерницей которой во внутренней тюрьме Лубянки была близкая подруга Екатерины Ивановны — Валентина Остроумова:
«Летом 1938 года Остроумова прилетела в отпуск в Москву и зашла на квартиру к М.И.Калинину, поскольку была дружна с его женой Екатериной Ивановной. Встретились и поговорили — отвели душу. Сталину дали заслуженную характеристику: «Тиран, садист, уничтоживший ленинскую гвардию и миллионы невиновных людей» (передаю её слова точно). Не могу припомнить, присутствовал ли при разговоре кто-либо третий, или же стены на квартире М.И.Калинина «слушали». Так или иначе, арестовали обеих. Остроумову — в аэропорту, когда она после окончания отпуска улетала на Игарку, Екатерине Ивановне, как мне рассказывали в камере, ордер на арест предъявили у входа в Кремль, в проходной у Троицких ворот».
Поначалу своенравная Калинина вела себя на допросах довольно дерзко: все-таки она была женой самого Калинина, надеялась, что муж использует свои связи для ее освобождения. Спустя два месяца после ареста Екатерину перевели в Лефортовскую тюрьму – стало понятно, что помощи супруга ждать не приходится. Хотя Калинин и пытался. Однако проблемы семьи «всесоюзного старосты» в Кремле мало кого волновали — ему, как и многим другим сталинским соратникам, предстояло пройти чудовищный тест на верность вождю.
«Мы уже знали, что Сталин не расстается со старыми привычками: у каждого из его соратников обязательно должны быть арестованы близкие. Кажется, среди ближайшего окружения Сталина не было ни одного человека, у которого не арестовывали более или менее близких родственников. У Кагановича одного брата расстреляли, другой предпочел застрелиться сам; у Шверника арестовали и расстреляли жившего с ним мужа его единственной дочери — Стаха Ганецкого; у Ворошилова арестовали родителей жены его сына и пытались арестовать жену Ворошилова — Екатерину Давыдовну; у Молотова, как известно, арестовали его жену, которая сама была руководящей… Этот список можно продолжить… И ничего не было удивительного в том, что арестовали жену и у Калинина. Ну, а считаться с Калининым перестали уже давно», — писал в свой книге Лев Разгон, посвятивший супруге Калинина целую главу «Жена Президента».
Тот факт, что в кремлевской иерархии М.И.Калинин занимал едва ли не низшую ступень, говорит тот факт, что на допросах к его супруге применяли очень жёсткие меры: дошло до того, что однажды её избили до полусмерти, причём Лаврентий Берия, лично присутствовавший на допросе, подсказывал женщине-следователю: «Бейте по голове!». Не выдержав пыток, она созналась во всем, что от нее требовали. 22 апреля 1939 года коллегией ВС СССР Екатерина Ивановна была осуждена по статьям 17-58-6, 17-58-8 и 58-11 УК РСФСР и приговорена к заключению в ИТЛ сроком на 15 лет с поражением в правах на 5 лет. Сначала её направили в так называемый Алжир (Акмолинский лагерь жен изменников родины), затем она оказалась в Устьвымлаге, где с ней познакомился Л.Разгон:
«Екатерина Ивановна обладала эстонской неразговорчивостью, конспиративным опытом старой революционерки и жены профессионального революционера. Она не любила рассказывать о всем том, что происходило после ареста. Но мы знали, что сидела она тяжело. У неё в формуляре была чуть ли не половина Уголовного кодекса, включая и самое страшное: 58-8— террор. Формуляр её был перекрещен, что означало — она никогда не может быть расконвоирована и должна использоваться только на общих тяжелых подконвойных работах. Из тех десяти лет, к каким она была осуждена, Екатерина Ивановна большую часть отбыла на самых тяжелых работах, на каких только использовались в лагере женщины. Но она была здоровой, с детства привыкшей к труду женщиной и всё это перенесла. Во время последнего года войны в жизни Екатерины Ивановны стали происходить благодатные изменения. Вероятно, Калинин не переставал просить за жену. Что тоже отличало его от других «ближайших соратников». Молотов никогда не заикался о своей жене, а его дочь, вступая в партию, на вопрос о родителях ответила, что отец у неё — Молотов, а матери у неё нет… Словом, в последний год войны к Екатерине Ивановне стали регулярно приезжать её дочери — Юлия и Лидия».
М.И.Калинин действительно выхлопотал своей бывшей супруге «слабую категорию» по здоровью, благодаря чему Екатерина получила работу в бане – счищать стеклом гнид с белья заключенных. Жила она тут же, в бельевой, условия в которой, конечно, были более щадящими, чем в камере. В 1944 году, уже будучи очень больным, Михаил Калинин написал Сталину письмо, в котором просил помиловать жену. Однако генсек смягчился только после того, как прошение о помиловании ему написала сама Екатерина Ивановна. В письме, датированном, кстати, 9 мая 1945 года, она признала все вменённые ей ранее преступления и раскаялась (это было обязательным условием прошения о помиловании). «Моя единственная надежда на Ваше великодушие: что Вы простите мне мои ошибки и проступки и дадите возможность провести остаток жизни у своих детей», — так закончила свое прошение Екатерина Калинина. И тиран проявил великодушие! Сталин поставил на письме резолюцию: «Нужно помиловать и немедля освободить, обеспечив помилованной проезд в Москву». 11 июня 1945 года Президиум Верховного совета СССР постановил Екатерину Ивановну Калинину «Помиловать, досрочно освободить от отбывания наказания, снять поражение в правах и судимость». Она встретилась с супругом, когда тот уже был смертельно болен (рак кишечника). Летом 1946 года Михаила Ивановича не стало. Екатерина Калинина пережила своего мужа на 14 лет. Лев Разгон отмечал в своей книге, что на похоронах мужа вчерашней узнице Устьвымлага пришлось идти за гробом позади Сталина. Однако Владимир Аллилуев – сын свояченицы Сталина Анны Аллилуевой – писал, что Калининой в этой процессии не было, а рядом с генсеком шли Анна Сергеевна и Ольга Евгеньевна Аллилуевы. Кто на самом деле шагал вслед за вождём — на фотографиях того времени разобрать сложно.
Как бы то ни было, до конца проникнуться сочувствием к этой сильной женщине, которая столько выстрадала и перенесла, не позволяют несколько обстоятельств. Известно, что в 1924 году принципиальная большевичка Екатерина Калинина написала в ОГПУ донос, в котором обвинила родного брата Владимира Лорберга в предательстве и контрреволюционной деятельности (в услугах охранке). 3 июля Владимир Иванович, заведующий складом треста Моссукно, был арестован на своей квартире в Москве, обвинен в провокаторской деятельности, а 25 сентября того же 1924 года расстрелян. Кроме того, будучи членом Судебной коллегии по уголовным делам и Спецколлегии Верховного Суда РСФСР, Екатерина Калинина безжалостно отклоняла многие кассационные жалобы на строгие приговоры. Что поделаешь: в то чудовищное время мало кому удавалось до конца сохранить человеческий облик — вчерашние палачи назавтра сами нередко становились жертвами репрессивной системы.
Впрочем, иногда высокие заступники кардинально меняли жизнь заключенных Устьвымлага. Так, в 1943 году благодаря прошению маршала Георгия Жукова был досрочно освобожден генерал-майор Александр Кущёв – будущий герой Советского Союза, разработавший план боевых действий советской армии в Висло-Одерской стратегической операции. Однако далеко не у всех узников Устьвымлага были столь высокие покровители. Для тысяч заключенных жизнь в северной тайге казалась беспросветным адом. В котором даже те, кому нечеловеческим трудом удавалось заслужить поощрение начальства, нередко только приближали свою гибель. Вот как описывал это Лев Разгон.
«Больше всего в лагере погибали не чахлые интеллигенты, которые что-то умели, а мужики — здоровые, привыкшие к тяжелому физическому труду крестьяне. Все они становились жертвою «большой пайки». Утром нормальный заключенный получал 400 граммов хлеба и миску затирухи — кипятка, в котором была размешана ржаная мука; придя с работы, на которой он не только выполнил, но и перевыполнил норму, лесоруб получал 600 граммов хлеба, миску затирухи, еще 200 граммов хлеба вместо «второго блюда» и еще 200 граммов хлеба — как «премиальное блюдо» за перевыполнение нормы. Следовательно, «большая пайка» составляла почти полтора килограмма хлеба. Пусть сырого, плохо пропеченного, но настоящего хлеба! На такой пайке прожить можно! В действительности на такой пайке на лесоповале прожить нельзя. Невозможно. Наш старый, мудрый врач Александр Македонович Стефанов мне сказал, что дефицит между потраченной энергией и возвращёнными «большой пайкой» калориями так велик, что самый здоровый лесоповальщик через несколько месяцев обречен на неминуемую голодную смерть. Да, да, самую тривиальную голодную смерть при пайке в полтора кило».
Вполне вероятно, что и передовики, некогда передававшие друг другу представленный в нашей коллекции расшитый золотистыми буквами алый стяг, пали жертвами «большой пайки». С началом Великой Отечественной войны условия в Устьвымлаге стали вовсе невыносимыми: рабочий день был увеличен до 12 часов, отменены праздничные и выходные дни, повышены нормы выработки, снижено котловое довольствие. Кроме того, чтобы избежать возможной паники среди заключенных, была прекращена радиотрансляция из Москвы, сняты все репродукторы, отменена переписка с родственниками, запрещены посылки. Отказ от работы карался уже не карцером, а приравнивался к контрреволюционному саботажу, за который полагалась смертная казнь. Однако к осени 1941 года выяснилось, что такое бездумное «закручивание гаек» в гулаговском маховике может сломать весь отлаженный механизм репрессивной исправительно-трудовой машины – физическое состояние подавляющего большинства заключенных за это время стало просто критическим. Если накануне войны смертность в Устьвымлаге составляла в среднем 7% в год, то в 1942‑1943 годах она выросла до 20%.

Нары в бараке
«Практически лагерь перестал работать. Особый идиотизм всех этих «оборонных мероприятий» и их результатов заключался еще в том, что лес был необходим для ведения войны. Ибо основу всех современных порохов составляла целлюлоза. Только к концу зимы 1941/42 года главное начальство догадалось, что их оборонный энтузиазм не сработал. Выгнали всех старых начальников, появились новые — поумнее да пострашнее. Они быстро довели до смерти всех, утративших возможность выздороветь; стали кормить оставшихся в живых; не только разрешили посылки, но и стали поощрять их отправку, разрешили письма, повесили репродукторы во всех бараках, и бодрый голос Левитана стал сообщать, что на такой-то высоте наши части, активно обороняясь, подбили большое количество вражеских танков… А не разделявших необходимого оптимизма и поэтому разлагающе действующих на «контингент» стали арестовывать за «пораженческую агитацию» и отправлять на суд в центральный поселок — Вожаель, где их или расстреливали, или же, сунув новый дополнительный срок, отправляли в другой лагерь», — читаем мы в книге «Плен в своем Отечестве».
Во время войны в Устьвымлаге начали досрочно освобождать тех, кто был уже не жилец, чтобы уменьшить статистику лагерной смертности – за высокие показатели по этой статье по головке не гладили. Так что у части неизлечимых узников появилась возможность скоротать свои последние дни на воле. B 1942-м году в Устьвымлаг стали пригонять большие группы детей – все они были осуждены на 5 лет за нарушение закона военного времени «О самовольном уходе с работы на предприятиях военной промышленности». Так бесчеловечно наказывали подростков, не сдюживших стоять двойную смену у станка.

На 15 июня 1943 года в 49 зонах Устьвымлага насчитывалось около 27000 заключенных, но трудоспособными из них были лишь 11000 человек. Все они относились к категории ТФЛ, т.е. выполняли тяжелый физический труд, который выражался в замене механизмов человеческим организмом. Только к 1 марта 1945 года около 4000 изможденных узников были зачислены в категорию «легкий физический труд». Так что Победу в Великой Отечественной войне новыми производственными рекордами в Устьвымлаге отмечать было практически некому. Да и в послевоенное время никаких рапортов о трудовых подвигах устьвымлаговцев в архивах уже не встречается. Известно, что в 1949 году лагерь насчитывал 14 лагпунктов и 39 подкомандировок с 20-ю тысячами заключенных (из них 20% нетрудоспособных), которых охраняли 25 взводов охраны. Однако уже в следующем году Устьвымлаг оброс новыми отделениями, в которых содержались около 22 тысяч человек. Люди по-прежнему ютились в рубленых бараках с драночными крышами, воду брали из ручья. В 1952 году в структуре Утьвымлага было 57 лесозаготовительных участков, 1 сплавное лаготделение, 4 сельскохозяйственных и 5 подсобных участков. Заключенных размещали по статьям: для «контрреволюционеров» было организовано 21 подразделение усиленного режима (3700 человек), для «уголовников» — 13 подразделений (5150 человек), для всех остальных — 8 подразделений (9350 человек).
Смерть Сталина в марте 1953 года в лагерях ГУЛАГа была встречена с ликованием – свидетельства об этом есть во многих опубликованных воспоминаниях бывших заключенных (подробнее о похоронах генсека читайте в истории «В последний путь с «Огоньком»»). Я.И.Бричко, бывший политзаключенный, вспоминал, как во время следования 300 заключенных кто-то крикнул: «Хорошо, что сдох палач!». В ответ охранники открыли огонь из автоматов по колонне: 9 человек были убиты и 31 ранен. В некоторых лагерях заключенные отслужили даже свой «молебен» по усопшему тирану. «Лев Разгон рассказывал, как в начале марта 53-го он вместе с другими заключенными ехал по тундре и вдруг увидел бегущую фигурку. Человек страшно кричал: «Ус сдох! Гуталинщик загнулся!» Вопли разносились на многие километры по совершенно пустой и холодной тундре… А затем в зоне состоялся тайный молебен. Службу вели католические ксендзы, поскольку православных священников не осталось. Собравшиеся зеки – русские, украинцы, евреи, татары, чеченцы — просили каждый на своем языке об одном: чтобы Сталин, не дай Бог, не поправился», — вспоминал кинорежиссер Юрий Герман.
Уже 27 марта 1953 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии заключенных ИТЛ МВД СССР» — он дал старт демонтажу системы ГУЛАГа. В течение 3-4 месяцев освобождению подлежали все, кто был осужден на незначительные сроки за должностные и хозяйственные преступления, беременные и кормящие женщины, несовершеннолетние правонарушители, пожилые и инвалиды с неизлечимыми заболеваниями. Амнистия не коснулась тех, кто был осужден по 58-й статье. В результате из 2 526 402 заключенных освободились 1 181 264 человек (46,75%). Это привело к сокращению числа лагерей и лагподразделений — со 175 на начало марта 1953 до 68 к концу того же года. По данным на 1 января 1954 года, в Устьвымлаге остались 17863 заключенных. Примечательно, что в числе освобожденных холодным летом 53-го оказались в основном уголовники. Начальник лагеря Шерстнев на X партийной конференции с горечью отмечал, что амнистия привела к уменьшению объемов производства Устьвымлага на 40%

С середины 50-х годов узников Устьвымлага начали постепенно реабилитировать. Справка о реабилитации В.И. Золотарева. 1955 год
В июле 1956 года все производство Устьвымлага было передано Устьвымспецлесу. Так закончилась официальная история Устьвымлага, а на его месте возникло Усть‑Вымское управление лесных исправительных учреждений (Учреждение АН‑243) – лагерь просто стали называть колонией, но в остальном всё осталось по-прежнему. На тот момент он состоял из 13 подразделений, в которых находились 21140 человек. Выходит, что даже после амнистии Устьвымлаг почти ничего не потерял — ни в численности заключенных, ни в территории дислокации. Он оставался нужен государству — точнее, нужен был лес и прочие ресурсы, которые он давал.
Весной-летом 1958 года Президиум Верховного Совета СССР принял ряд указов, снимающих ограничения с некоторых категорий спецпоселенцев. С этой поры из Коми потянулись те, кто был когда-то насильно выдворен в этот суровый край и чудом сумел выжить за два с лишним десятилетия. В январе 1960-го приказом МВД СССР был ликвидирован ГУЛАГ, а за ним и лесные исправительно-трудовые колонии – по бумагам их преобразовали в леспромхозы с вольнонаемными рабочими. Впрочем, особой воли в ту пору на берегах Выми еще не чувствовалось: многие вспоминают, что на лесосплавах «священной» реки и в начале 1960-х все еще было люто — там содержалось около 18 тысяч заключённых. Однако медленно, но верно жизнь уходила из лагерей Коми, большинство спецпосёлков закрывались, а их немногочисленные жители перебирались в населенные пункты покрупнее. Впрочем, на базе некоторых спецпоселков и сегодня существуют небольшие деревушки. Причем с теми же названиями, что даны были «уполномоченными органами» в начале 30-х годов. Жизнь в них сейчас течет по-северному размеренно, а о прошлом почти ничего не напоминает. Возможно, местное население просто не хочет лишний раз думать о трагическом прошлом этого края: как ещё объяснить тот факт, что на месте кладбища поселка Вожаель, на котором хоронили зеков в 1930-40-х годах, в 1980 годы построили баню.
В 1990-2000 годы, когда после развала СССР стали доступны многие закрытые ранее архивные документы, в Коми потянулись многочисленные исследовательские группы, чтобы собрать более подробный материал об Устьвымлаге и окрестных спецпоселках. Некоторые поселения поисковикам не удалось найти вовсе, о других напоминают лишь полуразрушенные бараки. Обнаружили исследователи и несколько кладбищ Устьвымлага. С 1938-го до середины 1950-х годов на погосте, примыкавшем к лесозаводу, хоронили заключенных, затем его забросили. Точная численность похороненных здесь до сих пор не установлена. Лагерные захоронения и надмогильные кресты почти не сохранились — лишь ряды могильных холмов, отдельные могильные провалы, следы траншей с общими ямами.

Уцелевшие захоронения Устьвымлага
В каждом из обнаруженных поселков и лагпунктов родственники погибших узников и поисковики установили памятные кресты или мемориальные камни. Один из памятников с 2000 года стоит на возвышенности у въезда в деревню Вогваздино Усть-Вымского района — говорят, на этом холме и расстреливали провинившихся заключенных. Надпись на монументе: «Прошедшим горе и унижения. Погребенным в безвестных могилах. Оставшимся в нашей памяти… Чтобы не повторилось. Через пересыльный пункт в Вогваздино прошли тысячи безвинно осужденных жертв ГУЛАГа…».

Памятник жертвам политических репрессий на месте Устьвымлага. Поселок Вогваздино
В качестве эпилога приведем отрывок из письма немца Вольдемара Щультхайца, который в 1932 году родился в семье спецпереселенцев самого первого спецпоселка Коми – Ындин. После смерти Сталина и полной реабилитации Вольдемару удалось вернуться на историческую родину, а в 1985 году он вместе с сыном приехал в СССР, чтобы поклониться могилам своих погибших в Коми родственников.
«В 1985 году я решил навестить родные места, в которых родился, выживал и очень любил природу. С трудом мы с сыном туда добрались, но родного села уже не было. Оно превратилось в первозданное место, в которое были высланы наши предки. С трудом мы нашли кладбище, на котором росли большие деревья. На одном дереве была прибита дощечка, на которой с трудом можно было прочитать фамилию Щультхайс Пётр Филиппович, это был мой дедушка, который погиб сразу после переселения. Там, где стояли наши дома, рос молодой березняк. На берегу речки Ын была единственная охотничья избушка, около которой стоит большой крест, в честь невинно репрессированных. Реки, которые когда-то были полны рыбой, кормили нас, служили дорогой и транспортным средством для сплава леса, были загажены от гнившего по берегам леса. Когда-то чистая, прозрачная речная вода стала тёмной и непригодной для питья. Сын сказал: — Ну, у тебя и Родина!»
Щультхайц—младший еще не знал, что Родину не выбирают…

Вольдемар Щультхайц на месте спецпоселка Ындин