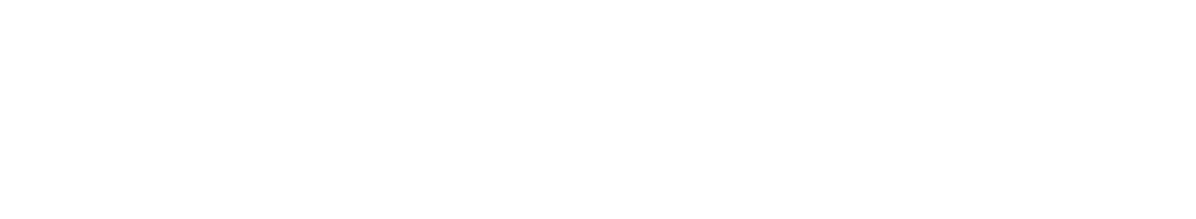Когда сейчас вспоминаешь о событиях и встречах того времени, некоторые из них кажутся бесконечно далекими, а некоторые такими близкими, будто они произошли вчера. Многие дружеские связи, давно забытые, тогда были крепкими, и рвать их было все-таки больно, и поддержка такого друга, каким был Есенин, в ту пору была гораздо значительнее и глубже, чем может показаться теперь.
Другая поддержка пришла от еще более «аполитичного» поэта, чем мы, Осипа Мандельштама. Меня это особенно радовало в то время. Он не отшатнулся от меня, подобно Владимиру Гордину, Георгию Иванову и многим другим, а всегда сочувственно улыбался при встречах, будучи на несколько голов выше обывательских мнений и предрассудков.
Есенин и Мандельштам, два противоположных по духу поэта той поры, сходились в сочувствии к зарождающейся Советской власти.
Вспоминая об этих незабываемых днях, ставших историческими, не могу умолчать и о моем друге Николае Бальмонте, который оказался дальновиднее и прогрессивнее своего знаменитого отца. Молодой пианист Бальмонт не только поддерживал меня духовно в это переломное время, но бывал со мной вместе на всех большевистских митингах и лекциях.
В самом начале марта 1918 года Москва была объявлена столицей нашего государства. Нарком по просвещению А. В. Луначарский назначил меня своим секретарем-корреспондентом в Москву, куда я и выехал 7 марта. Одновременно редакция газеты «Известия», в которой я сотрудничал, поручила мне быть ее корреспондентом в Москве.
Петербургский период моей жизни закончился, но встречи с Есениным возобновились, точно не вспомню, через сколько месяцев, но во всяком случае очень скоро: Есенин оказался тоже в Москве.
Еще в 1914–1915 годах я вел переписку с тремя московскими поэтами, с которыми лично не был знаком, – Сергеем Бобровым, Николаем Асеевым, пригласившими меня сотрудничать в издательство «Центрифуга», и с Вадимом Шершеневичем, издавшим книгу моих стихов «Пламя пышет» (1913) в своем издательстве «Мезонин поэзии».
Вадим Шершеневич, узнав, что я еду в Москву, просил меня остановиться у него. Я воспользовался этим приглашением и первые дни по приезде в Москву прожил у него на Крестовоздвиженском, до получения собственной комнаты в Трехпрудном переулке.
Здесь я познакомился с Анатолием Мариенгофом (он работал тогда в издательстве ВЦИК техническим секретарем К. С. Еремеева).
Я часто бывал в издательстве, так как знал Еремеева еще по Петербургу: в 1912 году он был членом редколлегии газеты «Звезда», в которой печатались мои стихотворения.
Бывая у Еремеева, я познакомился ближе с Мариенгофом и узнал от него, что он «тоже пишет стихи». Не помню, как познакомились Есенин, Мариенгоф и Шершеневич, но к 1919 году уже наметилось наше общее сближение, приведшее к опубликованию «Манифеста имажинистов». Если бы в то время мы были знакомы с творчеством великого азербайджанского поэта Низами, то мы назвали бы себя не имажинистами, а «низамистами», ибо его красочные и яркие образы были гораздо сложнее и дерзновеннее наших.
Не буду останавливаться подробно на всем, что связано с возникновением школы имажинистов, так как об этом написано довольно много воспоминаний и литературоведческих исследований. Скажу только, что меня лично привлекла к сотрудничеству с имажинистами скорее дружба с Есениным, чем теория имажинизма, которой больше всего занимались Мариенгоф и Шершеневич. В 1971 году вышла в свет в издательстве «Наука» книга «Поэзия первых лет революции». В ней, в разделе об имажинизме, много неточностей, вызванных тем обстоятельством, что многие факты не могли быть известны авторам по той простой причине, что часть из них была в свое время опубликована, но стала достоянием различных архивов, а часть еще совсем не опубликована. В частности, авторы книги утверждают, что «имажинисты (подразумеваются все имажинисты. – Р. И.) составляли оппозицию к левому крылу футуризма во главе с Маяковским» (стр. 110).
Если бы они (авторы книги) были знакомы с моей полемикой с Вадимом Шершеневичем (его статьи печаталась в газете «Утро России», а мои статьи – в газете «Анархия»), где я выступал в защиту Маяковского от нелепых нападок Шершеневича, что они, несомненно, упомянули бы об этом и, вероятно, добавили бы, что не все имажинисты были в оппозиции Маяковскому. Кроме того, авторы книги не потрудились просмотреть все советские газеты, выходившие в то время. Иначе они обратили бы внимание на то, что один из имажинистов печатал в советской прессе стихи и статьи: более близкие к революционному духу Маяковского, чем к теоретическим утверждениям своих коллег по имажинизму. Это навело бы их на мысль о более глубоком психологическом анализе тогдашних литературных школ и дало бы повод рассматривать тогдашние взаимоотношения имажинистов с более правильной точки зрения.
В тот период я встречался с Есениным почти ежедневно, и наша взаимная симпатия позволила нам игнорировать всякие «формальности» школы имажинистов, в которой, в сущности говоря, мы были скорее «постояльцами», чем хозяевами, хотя официально считались таковыми.
В январе 1919 года Есенину пришла в голову мысль образовать «писательскую коммуну» и выхлопотать для нее у Моссовета ордер на отдельную квартиру в Козицком переулке, почти на углу Тверской. В коммуну вошли, кроме Есенина и меня, писатель Гусев-Оренбургский, журналист Борис Тимофеев и еще кто-то, теперь уже не помню, кто именно.
Секрет заключался в том, что эта квартира находилась в доме, в котором каким-то чудом действовало паровое отопление, почти не работавшее ни в одном доме Москвы.
Я долго колебался, потому что предчувствовал, что работать будет очень трудно, если не совсем невозможно, но Есенин умел так уговаривать, что я сдался, тем более что он имел еще одного мощного союзника – невероятный холод моей комнаты в Трехпрудном переулке. Но я все же пошел на «компромисс»: я сказал бывшему попечителю Московского округа, который мной «уплотнился», что уезжаю на месяц в командировку, и, взяв с собой маленький чемоданчик и сверток белья, въехал в квартиру «писательской коммуны». Таким образом, «тыл» у меня был обеспечен.
Из книги Рюрика Ивнева «Серебряный век. Невыдуманные истории»