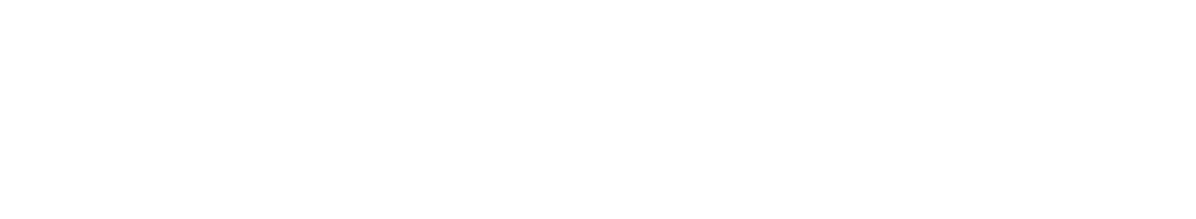.. В то время, как я был еще в Брюсселе, в 1740 году умер в Берлине толстый король прусский Фридрих-Вильгельм, самый непокладистый, бесспорно, самый экономный и самый богатый наличными деньгами из всех монархов. Сын его, составивший себе столь удивительную репутацию, находился со мной в довольно правильных сношениях уже более четырех лет. Я полагаю, что менее похожих друг на друга отца и сына, нежели эти два монарха, трудно отыскать. Отец был настоящий вандал, который в течение всего своего царствования только и думал о том, чтоб копить деньги и тратить как можно меньше на содержание лучшего войска в Европе.
Никогда подданные не были беднее, и никогда король не был богаче. Он скупил за бесценок большинство земель своего дворянства, которое очень скоро прожило полученные за них небольшие суммы, причем большая часть этих денег вернулась в королевские сундуки путем налогов на съестные припасы. Все королевские земли были сданы в аренду сборщикам податей, которые в то же время были и судьями, так что если земледелец не платил в срок арендатору, последний надевал свой судейский мундир и присуждал виновного к двойной уплате. Надо отметить, что когда тот же судья не вносил деньги королю в последнее число месяца, то первого число следующего месяца на него насчитывали уже двойной взнос.
В сравнении с деспотизмом, проявляемым Фридрихом-Вильгельмом, Турция могла сойти за республику. Подобными средствами он успел за двадцать восемь лет царствования скопить в подвалах своего берлинского дворца около двадцати миллионов золотых экю, тщательно закупоренных в бочонках с железными обручами. Ему доставляло удовольствие украшать свои покои большими предметами из массивного серебра, в которых искусство имело меньше значения, нежели материальная ценность. Своей супруге он подарил кабинет, в котором вся мебель была золотая, до ручек каминных щипцов и лопаток и кофейников включительно. И из этого дворца король выходил пешком в потертом кафтане из синего сукна с медными пуговицами. Когда же он заказывал новый кафтан, пуговицы переходили на него со старого. В таком наряде его величество, вооружившись толстой палкой сержанта, каждый день производил смотр своему полку великанов. Этот полк был его страстью и главным расходом. Первая шеренга его отряда состояла из людей, среди которых самый маленьких имел семь футов роста. Он их скупал со всех концов Европы и Азии. Окончив смотр, Фридрих-Вильгельм шел гулять по городу, и тогда все встречные разбегались во все стороны. Если ему попадалась женщина, он спрашивал ее, зачем она шляется по улице, и говорил: «Иди домой, негодница, честная женщина должна заниматься своим хозяйством». И сопровождал выговор здоровой пощечиной, а то и пинком ноги в живот, или несколькими ударами палкой. Точно так же он обходился и с проповедниками святого Евангелия, если им приходило в голову поглазеть на парад.
Можно поэтому представить себе, как этот вандал был изумлен и недоволен тем, что сын его умен, остроумен, учтив и исполнен желания нравиться; что он стремится к образованию и пишет музыкальные пьесы и стихи. Если он видел в руках наследного принца книгу, он бросал ее в огонь, если сын играл на флейте, он ломал флейту. Иногда он и с ним самим поступал так же, как с женщинами на улице и с проповедниками на параде.
Так как отец мало допускал его к делам — да и дел никаких не было в этой стране, где вся жизнь проходила в смотрах — он наполнял свой досуг писанием писем к более или менее известным французским литераторам. Главная тяжесть выпала на мою долю. Он посылал мне то письмо в стихах, то метафизический трактат, то сочинение по истории, или политике. Он называл меня божественным мужем, а я называл его Соломоном. Эпитеты нам ничего не стоили. Некоторые из этих комплиментов были напечатаны в собрании моих сочинений, но, к счастью, их и тридцатой части туда не попало. Я позволил себе послать ему очень красивую чернильницу работы Мартена; он был так любезен, что подарил мне несколько безделушек из янтаря. И литераторы парижских кафе с отвращением заключили из этого, что карьера моя сделана. Один молодой курляндец по имени Кайзерлинг, который тоже кое-как писал французские стихи, и вследствие этого был его любимцем, отправился по его приказанию с границ Померании в Сирэ (поместье, в котором в то время жил Вольтер). Мы устроили ему иллюминацию, причем огнями были изображены герб и инициалы наследного принца с девизом: «Надежда человеческого рода». Что касается меня, то если бы я пожелал ласкать себя надеждами — я имел бы полное на то основание, так как мне писали «милый друг». В письмах не было недостатка в прочих доказательствах солидной дружбы, которые предназначаются мне, когда принц взойдет на престол.
Это, наконец, свершилось в то время, когда я был в Брюсселе (31 мая 1740 года). Он начал с того, что прислал во Францию чрезвычайным послом калеку по имени Камас, бывшего французским эмигрантом, а теперь офицера на его службе. Он говорил, что в Берлине был французский посол, у которого не хватало кисти руки, и что он, желая расплатиться за все, полученное от короля Франции, отправляет к нему посланника, у которого только одна рука. Камас, остановившись на постоялом дворе, прислал ко мне своего пажа, поручив ему сказать мне, что он слишком устал, не может прийти ко мне сам и просит меня тотчас же прийти к нему, так как он должен передать мне от имени своего государя огромный и великолепный подарок. «Идите скорее, — сказала мне госпожа дю Шатле, — Наверное, вам прислали коронные бриллианты». Я поспешил к посланнику и увидел, что вместо всякого чемодана у него за стулом стояла кварта (32 литра) вина из погреба покойного короля, которое царствующий король приказал мне выпить. Я рассыпался в благодарностях и выразил мои восторги по поводу этих жидких знаков благоволения ко мне его величества, взамен тех солидных знаков дружбы, которые он мне обещал, и разделил вино с Камасом.
Мой Соломон был в то время в Страсбурге. Проезжая по длинным и узким владениям, тянущимся от Гельдера до Балтийского моря, он вздумал посмотреть инкогнито границы и войска Франции. Он исполнил эту фантазию, посетив Страсбург под именем богатого чешского аристократа, графа дю Фур. Сопровождавший его брат, наследный принц, также взял себе какой-то псевдоним, только Альгаротти, который уже примкнул к его свите, не скрывался под маской. Король прислал мне в Брюссель описание своего путешествия наполовину в стихах, наполовину в прозе во вкусе Башомона и Шапеля, насколько только короля прусский может приблизиться к их жанру. Из его письма в стихах видно, что он еще далеко не сделался французским поэтом и как философ, не был совершенно равнодушен к тому металлу, который накопил его отец.
Из Страсбурга он отправился осматривать свои владения в нижней Германии и уведомил меня, что собирается посетить меня инкогнито в Брюсселе. Мы приготовили ему чудесный дом; но он, заболев в маленьком замке Мез, в двух лье от Клеве, написал мне, что рассчитывает на мое посещение. Итак, я отправился выразить ему мое глубочайшее почтение. Мопертюи, уже составивший свой план и одержимый желанием сделаться президентом Академии, явился без приглашения и жил вместе с Кайзерлингом и Альгаротти на чердаках замка. У ворот я встретил в виде стражи одного только солдата… Меня провели в покои его величества. Здесь, кроме четырех стен ничего не было. В одной из комнат при свете убогой свечки, я увидел жалкую, узкую кровать, на которой лежал маленький человечек, закутанный в халат из темно-синего сукна: это был король, который то дрожал, то обливался потом под скверным одеялом — у него был сильный припадок лихорадки. Я раскланялся и начал с того, что стал щупать его пульс, словно был его лейб-медиком. Когда пароксизм окончился, он оделся и сел за стол. Альгаротти, Кайзерлинг, Мопертюи, посланник короля при Генеральных штатах и я — ужинали с ним и беседовали о бессмертии души, о свободе и об андрогинах Платона. Советник Рамбонэ между тем, отправился верхом на наемной лошади и, проехав всю ночь, на другой день прибыл к воротам Льежа, где и стал распоряжаться именем своего государя, тогда как везельские войска собирали с города контрибуцию. Поводом к этой прекрасной экспедиции были какие-то права, которые король будто бы имел на одно из предместий города. Он поручил мне даже составить манифест, что я кое-как и сделал, не сомневаясь в том, что король, с которым я ужинал и который называл меня своим другом, не мог быть не прав. Дело уладилось вскоре при помощи миллиона франков, уплатить который он потребовал тяжелыми дукатами, деньги эти возвратили ему расходы по страсбургскому путешествию, но которые он жаловался в своем поэтическом письме.
Тем не менее, я чувствовал к нему привязанность, так как он был умен, милостив и, кроме того — король, что всегда по слабости человеческой имеет большое значение. Обыкновенно бывает так, что мы, литераторы, восхваляем королей; этот же осыпал меня похвалами с головы до ног….
Король прусский незадолго до смерти своего отца вздумал написать сочинение против принципов Макиавелли. Если бы Макиавелли был учителем принца, то, конечно, прежде всего, посоветовал бы ему написать подобное сочинение. Но наследный принц не обладал подобным коварством. Он писал совершенно искренне в то время, когда не был еще государем, и когда пример отца не внушал ему ни малейшей любви к деспотизму. Он в то время восхвалял от чистого сердца умеренность и правосудие, и всякое преувеличение власти рассматривал как преступление. Он переслал мне свою рукопись в Брюссель, чтобы я ее исправил и отдал в печать. Я же подарил ее одному голландскому книгопродавцу по имени Ван Дюрен, самому отъявленному мерзавцу из всех мерзавцев этой породы…
Я уже раньше говорил ему, что не могу поселиться у него, так как отдаю дружбе предпочтение перед честолюбием, что я привязан к госпоже дю Шатле и из двух философов предпочитаю даму королю. Он одобрял эту свободу выбора, хотя сам женщин не любил. Я отправился к нему с визитом в октябре. Кардинал Флери написал мне длинное письмо полное похвал «Анти-Макиавелли» и его автору, и я, конечно, показал это письмо королю.
Последний уже собирал свои войска, хотя ни один из его генералов и министров не мог еще проникнуть в его планы. Маркиз де Бово, отправленный к нему с поздравлениями, полагал, что новый король объявит себя противником Франции и сторонников королевы Венгрии и Чехии Марии-Терезии, дочери Карла VI; что он захочет поддержать избрание на имперский престол Франца Лотарингского, великого герцога Тосканского, супруга Марии-Терезии, так как мог извлечь из этот большие выгоды для себя.
Я, более, чем когда-либо, мог думать, что новый король Пруссии действительно поступит так: три месяца назад он прислал мне свое политическое сочинение, в котором смотрел на Францию, как на естественного врага Германии. Но в натуре его была склонность делать все наоборот тому, что он говорил и писал. Он делал это не из коварства, а потому что писал и говорил под одним настроением, а действовал под другим.
Он отправился 15 декабря больной перемежающейся лихорадкой на завоевание Силезии, во главе тридцатитысячного, отлично снабженного и дисциплинированного войска. Садясь на лошадь, он сказал маркизу де Бово: «Я буду играть вам в руку: если ко мне придут тузы — мы поделимся». Впоследствии он написал историю этого завоевания и показывал мне ее по окончании. Вот один из любопытнейших отрывков из начала этой летописи. Я переписал его как единственный в своем роде памятник: «Прибавьте к этим соображениям всегда готовые действовать войска, хороший денежный запас и живость моего характера. Вот причины, побуждавшие меня вести войну против королевы Венгрии и Чехии Марии-Терезии». И несколько ниже встречалось такое выражение: «Честолюбие, корысть, мое желание прославиться восторжествовали и, война была решена». С тех пор, как существуют завоеватели и пылкие умы, стремившиеся к завоеваниям, я думаю, что он первый высказал такое откровенное о себе мнение. Ни один человек еще, может быть, не сознавал, так как он, что говорит разум, и не слушался, так как он, своих страстей. Характер его всегда состоял из этой смеси философских взглядов и проявлений разнузданного воображения.
Я жалею, что побудил его вычеркнуть эти слова, когда поправлял все его сочинения: такое редкостное признание должно было перейти к потомству, чтоб послужить доказательством того, на чем основаны почти все войны. Мы — литераторы, поэты, историки, академические декламаторы — все мы прославляем эти великие подвиги, а монарх, совершающий эти подвиги, их осуждает….
Король прусский, укрепив, между тем, свое мужество и выиграв несколько сражений, заключил с австрийцами мир. Мария-Терезия к великому прискорбию своему, уступила ему графство Глатц с Силезией. Отступившись без церемоний на этих условиях от Франции в июне 1742 года, он сообщил мне, что принялся за свое лечение и советует и другим больным полечиться. Государь этот был в то время в апогее своего могущества: он имел 130 тысяч человек победоносного войска, кавалерию, которая была создана им; от Силезии он получил вдвое больше того, что она давала австрийскому дому; он утвердился в новом своем завоевании и еще более был счастлив тем, что другие державы находились в плачевном положении. В настоящее время война разоряет правителей; его же она обогатила. Он направляет теперь свои старания на украшение Берлина. Он построил лучшие в Европе театральные залы, пригласил всевозможных артистов, так как он хотел идти к славе всякими путями и наиболее дешевыми средствами. Отец его жил в Потсдаме в прескверном доме; он сделал из него дворец. Потсдам превратился в хорошенький город. Берлин разросся. Там начали познавать сладости жизни, которыми так пренебрегал покойный король. У некоторых жителей появилось мебель; большинство стало носить рубашки, тогда как в прежнее царствование носили только переда рубашек, привязывавшиеся тесемками; да и теперешний король никогда раньше не знал других. Все заметным образом изменилось: Спарта превращалась в Афины. Пустыри расчищались; 130 сел выросли на высушенных болотах. Королю это, однако, не мешало писать книги и сочинять музыку; поэтому нельзя особенно упрекать меня за то, что я называл его Соломоном Севера. В моих письмах я дал ему это прозвище, которое надолго осталось за ним…
Между тем, государственные дела со времени смерти кардинала (Флери В.Е.) не шли лучше, чем в последние годы его жизни. Австрийский дом возрождался из пепла: Францию теснили Австрия и Англия. Единственным нашим прибежищем оставался прусский король, который вовлек нас в войну и покинул нас, когда счел это для себя удобным. Тогда решено было тайно послать меня к этому государю, чтоб позондировать его намерения и узнать, не согласится ли он предупредить грозу… и не согласится ли он снабдить нас при случае сотнею тысяч войска… Для этого необходим был какой-либо предлог. Я придрался в этом случае к моей ссоре с бывшим епископом Мирпуа…
Король прусский, никогда не церемонившийся с монахами и придворными прелатами, отвечал мне целым потоком насмешек над «ослом Мирпуа» и пригласил меня приехать как можно скорее.
Когда я приехал в Берлин, король поместил меня у себя, как и в предшествовавшие мои посещения. В Потсдаме он жил совершенно один, (? это слово в книге смазано В.Е.) как всегда жил потом со времени своего вступления на престол. Небезынтересно будет сообщить некоторые подробности этой жизни. Он вставал в 5 часов утра летом и в 6 зимой. Если вы полюбопытствуете узнать, каковы были обязанности его капеллана, его главного камергера, его камер-юнкеров, его стражи, то я отвечу вам, что один лакей приходил затопить у него печку, одеть и выбрить его; да и то он одевался большею частью сам. Спальня его была довольно красива: роскошные серебряные перила, украшенные художественно сделанными амурами, окружали, по-видимому, возвышение кровати, закрытой занавесью; но за занавесью вместо кровати скрывалась библиотека, так как постель короля представляла собой скверную скрытую ширмой складную кровать с тонким тюфяком. Марк Аврелий и Юлиан, апостолы стоицизма, спали, наверное, не хуже его.
Когда его величество был совершенно одет, этот стоик посвящал несколько минут учению Эпикура: он призывал к себе двух или трех фаворитов — поручиков своего полка, пажей, скороходов или молоденьких кадетов, — и пил с ними кофе. Тот, которому бросали платок, оставался минут на десять вдвоем с королем. До последней крайности дело не доходило, так как государь при жизни отца сильно пострадал от мимолетных любовных связей и был плохо вылечен. Первой роли он играть не мог — ему приходилось довольствоваться второй. По окончании этих школьнических забав, он принимался за государственные дела. Первый министр его приходил по потайной лестнице с большой связкой бумаг под мышкой. Этот первый министр был просто приказчик, живший на втором этаже дома Федерсдорфа, солдат, сделавшийся лакеем и любимцем короля и служивший некогда ему, тогда наследному принцу — во время заключения в Кюстринском замке. Статс-секретари посылали к этому приказчику короля все депеши. Он приносил ему извлечение из них, король в двух словах отмечал ответ на полях. Таким образом, все дела государства решались в час времени. В редких случаях до него допускались сами статс-секретари и министры: бывали даже такие, с которыми он никогда не говорил. Его отец завел такой порядок в финансах, все исполнялось с такой военной точностью, повиновение было до того слепо, что страна в четыреста квадратных миль управлялось, как какое-нибудь аббатство.
Около одиннадцати часов король в высоких сапогах делал в саду смотр своему гвардейскому полку, и в тот же час во всех провинциях полковые командиры производили смотры своим полкам. В промежутке межу парадом и обедом, принцы, его браться, высшие офицерские чины, два или три камергера собирались к его столу, который был настолько хорош, насколько может быть хорош стол в стране, где нет ни дичи, ни порядочной говядины, ни пулярок, и где пшеницу надо выписывать из Магдебурга. После обеда король удалялся в свой кабинет и писал стихи до пяти, или шести часов. Затем являлся молодой человек по имени Дарже, бывший секретарь французского посла Валери, и читал ему вслух. В семь часов начинался маленький концерт: король играл на флейте не хуже лучшего артиста. Нередко исполнялись его собственные сочинения, и как не было ни одного искусства, которым бы он не занимался, в древней Греции ему не пришлось бы испытать того стыда, который испытал Эпаминонд, сознавшийся, что он не понимает музыки.
Ужин происходил в маленьком зале, самым удивительным украшением которого служила картина, заказанная им своему живописцу, одному из лучших колористов Пэну. Это была чудная приапея. Здесь изображены были юноши, обнимающие женщин, нимфы под сатирами, резвящиеся амуры, несколько зрителей, в экстазе созерцающих эту сцену, целующиеся голубки, козлы, прыгающие на коз, бараны на овец. Разговоры за ужином велись самые философские. Если бы кто-либо посторонний услышал нас и увидел картину, то ему показалось бы, что семь мудрецов Греции собрались в публичном доме. Нигде в мире не говорили с такой свободой о людских суевериях и нигде не говорили о них с такой насмешкой и презрением. К Богу относились с почтением, зато не щадили тех, которые обманывали людей его именем. — Во дворец никогда не входили ни женщины, ни попы. Одним словом, Фридрих обходился без двора, без совета и без культа. Он правил церковью также деспотически, как и государством. Он сам давал разводы, когда муж и жена хотели повенчаться с другими. Один пастор привел ему однажды по поводу этих разводов, текст из Ветхого Завета. Он отвечал: «Моисей делал со своими евреями, что он хотел, а я управляю моими пруссаками, как умею». Это странное управление, эти еще более странные нравы, эта смесь стоицизма и эпикурейства, строгости военной дисциплины и изнеженности во дворце; пажи, с которыми забавлялись в кабинете, и солдаты, которых по 36 раз прогоняли сквозь строй под окнами смотревшего на них государя, нравственные проповеди и разнузданные нравы — все это представляло собой удивительно странную картину, о которой многие ничего не знали, и с которой Европа познакомилась лишь впоследствии.
В Потсдаме все фантазии короля подчинялись строгой экономии. Его стол и стол его офицеров и слуг, за исключением вина, не превышал 33 экю в день. И тогда как у других королей расходами заведуют коронные чиновники, у него главным метрдотелем, виночерпием и хлебодаром был его лакей Федерсдорф. По экономическим или по политическим соображениям, от не оказывал никакой милости своим прежним любимцам, а в особенности тем, которые рисковали жизнью ради него, когда он был наследным принцем. Он не платил даже денег, которые занимал в то время и, подобно тому, как Людовик XII не мстил за обиды, нанесенные герцогу Орлеанскому, король прусский забывал долги наследного принца.
Когда он приезжал в Берлин, он выказывал большую пышность в дни приемов. Это было великолепное зрелище для людей тщеславных, то есть почти для всех, которые видели его за столом, окруженного тридцатью принцами, обедающем на прекраснейшей в Европе золотой посуде, тогда как тридцать красивых пажей и столько же скороходов в роскошных костюмах несли большие блюда из массивного золота.
На этих обедах появлялись и высшие сановники — в другое же время их никто никогда не видел. После обеда отправлялись в оперу, в громадную залу в триста футов длины, которую один из его камергеров по имени Кноберсдорф построил без помощи архитектора. Лучшие певицы и танцовщицы были у него на жаловании. Знаменитая Барбарини танцевала тогда в его театре, впоследствии она вышла замуж за сына его канцлера. Король приказал похитить эту танцовщицу из Венеции с помощью солдат, которые и привезли ее в Берлин. Он был немножко влюблен в нее, потому что у нее были мужские ноги. В особенности непонятно было то, что он давал ей 32 тысячи ливров жалования. Его поэт, итальянец, которого он заставлял перекладывать в стихи текст опер (текст этот он составлял всегда сам), получал только 1200 ливров; но надо при этом сказать, что этот поэт был очень некрасив и не танцевал. Одним словом, одна Барбарини получала больше, чем три министра вместе. Что касается поэта — итальянца, то он однажды вознаградил себя сам своими руками: он отпорол в одной старой капелле прусского короля золотые галуны, которыми она была отделана. Король, никогда не посещавший этой капеллы, сказал только, что он ничего не потерял. Кроме того, он незадолго до того написал в защиту воров рассуждение, напечатанное в сборниках его академии, и не считал удобным на этот раз, чтоб действия его расходились с писанием.
Вольтер о Фридрихе II Великом (Часть 1)

Павел Красавин
Поэт, Музыкант, Автор книги "Остров надежды". Автор статей в журналах, Редактор "History time". Очень увлечён историей, причём с самого раннего возраста. Сейчас же, базируюсь в сфере изобретений и фотографий ХIX века.